Меню:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Сайт в соцсетях:
Герб Брестского района
(утверждён в 2001 г.)
Герб Брестской области
(утверждён в 2004 г.)
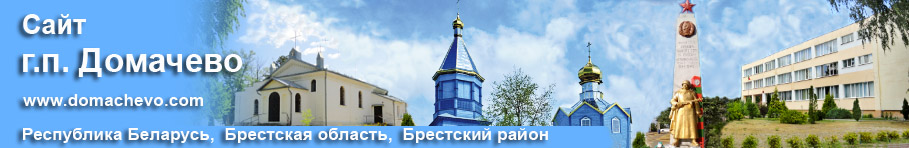
Александр Волкович
ПЛЫНЕ ВИСЛА
Приходилось ли вам слушать полноводную реку, текущую ранним весенним утром меж омытых росными травами низких берегов, ниспадающих в нешумливую воду кистями узколистых верб, кипенью цветущей черемухи, бойкой кудрявостью молодого ольшаника и дружными зарослями лозняка?! Волна образует на воде пузыри, подхватывает их, прибивает к берегу, затягивает в плавный водоворот - и они тихо гаснут, лопаются с еле слышным шипеньем, так и не дав возможности встающему солнцу отразиться цветами робкой радуги в их только что рожденной прозрачной полусфере. Короткий шлепок плашмя - это плакучая ива роняет в воду желтую слезу неожиданного зачатия. Дерево будет плакать еще долго, до тех пор, пока не нальется оплодотворенной силой тугих сережек.
Журчащий перелив переката – это мутная струя стремится пригнуть еще ниже торчащую со дна коряжку, а та дрожит от напряжения, сопротивляется натиску и позволяет лишь вскользь полировать воде свои потные от единоборства бока.
А в небольшом омутке, промеж оголенных корней старой вербы, неожиданно взбурлит темно-зеленую водяную толщу, блеснет матовым серебром тело рыбины-леща, а, может быть, голавля – и заставит екнуть томно сердечко предчувствием шальной рыбачьей удачи.
Тягучий воздух наполнен патокой черемухи и крушины, запахами тины и прибрежного аира вперемежку с терпкой смородиной-поречкой, сладковатой голубоглазой мятой и настырным горчичником. Уже стремительные стрижи покинули черные соты песчаного косогора – и чертят круги над водой, касаясь поверхности то острым крылом, то, зачерпывая клювом попить на лету. Солнце лишь пробивается из-за облаков, оно еще не поднялось выше прибрежного леса, а только подсвечивает его как бы снизу, убаюкивая лучами бегущие струи.
Но куда там небесному светилу против этого нескончаемого движения! Река не течет. Она – плыне. Так говорят в Польше. Именно плыне – медленно, плавно, не отдельной какой-то своей частью, стрежнем или крутым изгибом русла – а всей массой, всей глубиной, захватывая попутно берега, деревья, облака, небо, воздух, вовлекая весь окружающий мир в это величественное движение к морю.
Не успеть скромной зеленой красавице насмотреться вдоволь в меняющуюся рябь водного зеркала – вот уже исказила набегающая волна отражение цветущей черемухи, обиженно глядящей струям вдогонку. Казалось бы, – вот оно, люстерко, под рукой – а уже уплыло, убежало…. Потому что Висла - плыне. И так будет всегда.
Чьей памятью отпечаталась в моем сознании картина однажды увиденного польского берега, не единожды посещаемого, но всегда дорогого своей новизной нечаянного открытия?
О себе сужу определенно: был, видел, полюбил. И Вислу голубую – помню колыбельной песнею детства, где есть до откровенности знакомые слова: про лес вокруг, про разливы перекатов по реке, про волов, поводящих ушами вдалеке... Там, в той песне, еще присутствуют слова о свирели пастушьей на боку, но их нарочитая пасторальность не в состоянии опошлить искренность чувства узнавания и родства. Правильное ведь бытует мнение о песенках такого пошиба: слова, мол, простенькие, - да вот трогают до слез. И куда от этого деться?! Знать, близкое оно, в кровь и в подкорку сознания заложенное с малолетства – это заветное знание.
Три основы детского мироздания явились мне на берегу – Весна, Взросление, Висла.
А тут браце-Буг - Вислы дружок закадычный - за огородами поселка проплывает: кожушок ледяной хиленький уже скинул с плеча, от тепла напыжился, набрал побольше воздуха во все свои легкие в готовности глубокого выдоха – и выдохнул однажды ночью все неимоверное водное количество, которое ему далекие тающие Карпаты издалека с приветом послали. В одни сутки добежала карпатская волна до местечка Домачево, нещадно заливая попутно побужское понизовье мутной холодной водой, переполняя выше краев старицы и «кубаньки» (небольшие удельные озерца-отшельники), взбучивая болота и плещась, подступив впритык к песчаным взгоркам со старыми боровыми соснами-охранниками на них.
Колокола в местечке зазвонили неурочно – не к утрене и не к вечерне, а набатно – к пожару ли, к нашествию ли? А что к шалой воде – это точно. Никто ведь в святки и не заглядывал, а коль пришло весеннее половодье, Буг разлился во всю пойменную ширь, то и затрезвонили сторожевые храмы наперегонки. Первой, даже не по старшинству, - звонница православной церкви Святого Луки, что почти на самом обрыве у озера, бугской старицы, стоит, голос подала: пришла вода – затворяй ворота. Следом за ней – колокол приходского католического костела Непорочного зачатия Божьей Матери загомонил. Вначале суматошно, как бы не разобравшись от чего переполох, затем, успокоившись, размеренно, не спеша – звяк, звеньк… Костел на отшибе от заливных лугов, ближе к сосновому бору расположен - сюда разлив не доходит. Но для порядку пошуметь надо. Сообразно году рождения храма - 1854-го - против молодого, 1905-го, Луки, костел оповещает народ степенно, соответственно своему преклонному возрасту. Хотя какая там разница – всего полусотня годков! Это в молодости каждый из них длинным-предлинным кажется, непреодолимым представляется. Старость, напротив, каждую свою минутку бережет, лишнего движения без особой надобности не производит. Звеньк, звяк – да и ладно. Зато на той стороне Буга по всему затопленному низкому берегу перезвон на весь мир поднялся – в Хэлме, во Влодаве, в Славатычах, в Бяла-Подляске, по всем широким просторам поймы до слияния Западного Буга с Вислой…
Весенний разлив. Он принесет на поля плодородие, наполнит глубины рыбой, даст новую жизнь старицам, озерам и болотам.
Обновление пришло.
Начал я за здравие, продолжить вынужден – за упокой. И совсем не потому, что ни с того ни с сего траурные настроения колокольный гомон навеял. А потому что перезвоны эти разбудили в памяти историю одной человеческой судьбы, которая живет в сознании многих людей и поныне, найдя свое отражение в документах, в памятниках, в храмах – и это совсем не выдуманная повесть, а горькая правда. Вычурно, надуманно сказано? Отнюдь. А если зашевелилось в душе сомнение, то спросите у той девочки-полячки по имени Люцина, принимавшей свое первое церковное причастие в костеле Непорочного зачатия Божьей Матери в Домачево, сколько ей исполнилось годков в 21-й день июня 1941 года, когда явилась в последний предвоенный вечер в храм? Помнит ли она тот весенний разлив, тоже последний, предвоенный, - обещающее долгую безоблачную жизнь чарующее половодье? Помнит ли лица своих друзей и подружек - воспитанников Домачевского детского дома, что проснулись вместе с нею в июньское утро 22-го от раскатов, как всем показалось, обычной грозы?
Можете не ожидать ответа. Он очевиден. Люцина помнит все. Не сохранился в памяти лишь лик родной матери. Ее дорогие черты отыскивала в образе Матки Боски, висящем в престольном костеле в Домачево, в приютивших девочку воспитательницах поселкового детдома, куда попала накануне войны. Куда подевались родители, знать не ведала. Да и кто мог объяснить в ту пору малышке, за какие провинности выслала в Сибирь родителей-поляков из Бреста над Бугом красная Советская власть, пришедшая на эти прибужские земли в 1939 году? Кто вообще может сказать, сколько судеб перемыло великое междуречье Вислы, Западного Буга, Немана и Припяти, переходя волею сильных мира сего из рук в руки за годы больших и малых войн?!
По-разному можно понимать и чтить историю. Государства, народы, правители, армии, города, села, производства, земли, реки, горы, моря – все заверчено во вселенский водоворот политических, экономических, национальных, религиозных страстей и интересов, где человеческая жизнь порою не долговечнее пузыря, поднятого речным перекатом…
Пусть будет так. Но все это вместе взятое, в своей огромнейшей совокупности и глобальности, в самых невероятнейших переплетениях, падениях и взлетах, в любые годы и времена не стоит одной единственной слезы ребенка. Так сказал по-настоящему великий человек. И пусть нет пророков ни в своем, ни в чужом Отечествах, ни в небесах, ни на земле, сказанное – это единственная непреходящая ценность, сберечь которую, значит - сберечь самое Жизнь.
А коль уж завелась речь о государствах и границах, если задурил я себе и вам головы глубокомысленностью и эмоциональными оценками, то поступлю, как поступала моя матушка, белорусская селянка, ступая светлым летним полуднем полоскать рушники на речку – старицу Буга, братишку непутевого Вислы-сестрицы.
Ушат с бельем – в охапку, «праник» деревянный - под мышку, нас четверых, мал-мала меньше, – за подол - и айда на реку, полотно в водице обмакивать, на скользкие доски мостков расстилать, деревяшкой точеной выбивать, выколачивать. Только шлепки звонкие раздаются, над водой разносятся… Чисто ли льняное полотно? Не замарано ль? Не затоптано ль? Нет ли на нем пятнышка незамеченного? Ах, вот оно, - слезинка детская…
Так и я, в сутану историка облачась, сгребу тряпье белорусское, польское, русское, украинское - словом, наше славянское, окуну в святую водицу Буга ли, Вислы ли, Немана ли, Днепра, начну мять, выполаскивать, от грязи и скверны вымачивать, грузы грехов отбеливать, под солнцем правды высушивать. А сколько останется пятнышек несмываемых после постирушки нравственной, горькой слезою дитяти оставленных, - такова и подлинная цена всем нашим деяниям, вне зависимости от орнамента, на рушнике вытканного: национального, государственного.
Так лучше уж сразу без омовений и стирок в грехах тяжких покаемся, за безвинные души младенцев помолимся… Так-то оно верней будет.
Детский дом в поселке Домачево был организован в году 25-м, вскоре после того, как отхлынула от этих мест советско-польская война, которую вела молодая советская Республика Советов, и образовались так называемые Кшэсы Всходни – Полесское воеводство польского государства. Опекал приют католический костел. Следующее военное брожение пришлось на 1939-й год – захват фашистами Польши и пресловутое присоединение западных областей Белоруссии к СССР. Каждая их этих волн выбрасывала на обочину щепки в виде сирот военного лихолетья. К началу нападения фашистской Германии на СССР в Домачевском детдоме, бывшем приюте для девочек-сирот, насчитывалось до сотни воспитанников разных национальностей - польских, еврейских, белорусских, русских, украинских детишек. После ожесточенных боев 1941-го на границе приют пополнился оставшимися без родителей детьми пограничников, советских, партийных работников – а война укатилась на восток. Пограничные заставы вдоль всего побережья Западного Буга героически погибли, в том числе прекратили существование погранкомендатура и райком КПБ (б) в районном центре Домачево. В местечко пришел немецкий порядок, в котором детскому дому и его воспитанникам была уготована специальная участь, равно как и еврейскому гетто, спешно созданному оккупантами в сосновом бору близ костела.
Еще не было знаменитых Варшавского и Брестского гетто, не было лагерей смерти Освенцима и Майданека, сотен им подобных, а уже в конце 41-го на песчаный, поросший сосняком взгорок под Домачевом, близ так называемого Шилового болота, оккупанты согнали в стадо еврейское население поселка общим количеством больше двух тысяч человек, и после жестоких мытарств расстреляли всех поголовно, продержав в нечеловеческих условиях больше года. Узники гетто сами копали себе могилы…. За один день было уничтожено 2700 мирных жителей. Произошло это 18 сентября 1942 года. Таким же образом зондеркоманда СД вместе с размещенным в Домачево кавалерийским эскадроном жандармерии и полиции расправились с обитателями гетто в поселке Томашовка. Общий счет уничтоженных за это время евреев в округе перевалил за тысячи. Да и кто вел строгий учет убиенным?! Сотня голов туда, сотня – сюда…
Подошла очередь поднятья на Голгофу и сиротскому Домачевскому приюту.
…У детдомовской «воспиталки» Валентины Гриневич с утра сердце заныло, защемило – знать, к беде. Слухи ходили в поселке, в детдоме один другого страшнее. Говорили, будто Леночку Ренклах, двенадцатилетнюю воспитанницу, полицай на окраине поселка застрелил да еще похвалялся: дескать, убежать жидовочка хотела, кровь сдавать в немецкий лазарет отказалась… Леночке, судя по всему, и так жизни не было бы – дознались немцы, что она дочь советского служащего, расстрелянного фашистами работника отделения Госбанка в Домачево, да к тому же – еврейка. Ее младшим сестрицам и братику Дине, Боре и Эмме, девяти, пяти и двух лет от роду, путь скорбный уже обозначен, в гетто их увезли, значит, - конец. А как же остальные детишки? Кто их спасет, прикроет? Кормить детей нечем, а кровушку сдавать принуждают, считай, каждую неделю в немецкий госпиталь водят…
Особо привязалась Валентина Гриневич к белокурой малышке Люцине, которую пятилетней в детдом привезли. Волосы льняные, светлые, личико ангельское… Ласковая девочка, но какая-то запуганная. Так и льнет, прижимается, от воспитательницы ни на шаг не отходит. По документам ее фамилия Функ значится. Вроде бы польский военный медик был в Бресте такой. А куда пропал – неизвестно.
Ближе к обеду Валентина решилась отвести девочку к своим знакомым Буяновым – Леониду и Софье. Оттуда проще было переправить ее в семью Яголковских, что живут на Волынке под Брестом. Люди хорошие, поляки. Не дадут они сироту в обиду.
Так воспитательница и поступила. Чуть стало смеркаться, взяла Люцину за руку и, как бы прогуливаясь, отвела в дом Буяновых, который находился неподалеку от одноэтажных зданий детского дома. Наказала: уводите девчонку от греха подальше, чует сердце, нехорошее должно вскорости произойти, несчастье на пороге… Для надежности Люцину спрятали в погребе во дворе.
И как в воду женщина глядела. Часов в семь вечера во двор детского дома въехал пятнистый, зеленый пятитонник. Остановился, уставившись тупым рылом на согнанных к машине детишек.
- Грузите детей! – приказал заведующей детдомом А.П. Павлюк немецкий офицер.
- Куда? Зачем?
- Повезем в Брест. Здесь нет условий их содержать.
Приказ есть приказ, ослушаться нельзя. Может, и вправду, в городе детям лучше будет? Стали грузиться. Уже на выезде со двора с борта спрыгнула Тося Шахметова, убежала. Охранника, передернувшего было затвор автомата, офицер остановил: дескать, не время поднимать пальбу…А воспитательница Полина Грохольская, севшая в кузов вместе с детьми, малышей успокаивала, как могла: поедем, покатаемся…
Ехать пришлось недолго, не больше часа. Только не доезжая до развилки шоссе, ведущего к Бресту, за деревней Леплевка машина почему-то сворачивает в лес, петляет
по песчаной колее вокруг Копыцкой горы, направляется в сторону Буга и возле полузасыпанной ямы останавливается. Это брошеная огневая точка, может быть, ДЗОт, может быть, просто траншея – рубеж пограничной обороны. Давно стихли над этим местом выстрелы и разрывы. Надолго ли? Но только раздевать детишек к чему? Не проще ли окровавленное, продырявленное пулями бельишко сразу зарыть вместе с тонкими, искромсанными телами, с перепутанными, слипшимися от крови волосиками и синими ручками-ножками, застывшими в предсмертной агонии?! Они все, 54 голеньких, даже замерзнуть и испугаться толком не успели - разом заговорили автоматы, застучали выстрелы винтовок. Не смогла воспитательница Полина, как ни старалась, распростертыми руками от пуль детишек заслонить…
Такими и остались навеки – в бронзе отлитыми, с воздетыми к небу ладонями застывшими.
Расстрел произошел 23 сентября 1942 года. Через 10 лет останки безвинно казненных перезахоронили возле развилки дорог Домачево-Брест. Здесь был установлен памятник-обелиск. В 1987 году воздвигнут новый монумент «Протест» - скульптор А.Солятыцкий, архитекторы М.Ткачук и Г.Пешков. На стеле из белого мрамора – бронзовые изваяния детишек с поднятыми в мольбе руками.
Спустя много лет к подножью памятника положит цветы пани Хлюдзинская – это приедет из польского города Гданьска поклониться праху своих сестер и братьев воспитанница детдома в Домачево маленькая Люцина…
Скорбные даты, колючие цифры. Сгреб бы я их все разом в охапку, завернул бы в прочную тряпицу, стянул тугим узлом да зашвырнул бы подальше на середину реки, чтобы ни дна им, ни покрышки! И чтобы не развязывать сей узелок по возможности, память не бередить. Но только не удается забыть о страшном.
Весной 43-го захворала, стала таять от болезни-чахотки воспитательница детдома Валентина Гриневич. Так и умерла, тихо и незаметно для жителей поселка, не успев попрощаться с приобретенной дочерью Люциной. А спасенную от расстрела девочку Софья и Леонид Буяновы забрали с собой в деревушку Саювку за Бугом, что возле Словатычей, на территории теперешней Польши. Добрые люди, судьба хранили малышку, но далече от Буга, от Вислы не отпускали. А если проследить по географической карте ручеек ее жизни, то следующим перекатом окажется городок Эльблонг – это под Гданьском. Здесь уже после войны Люцина вновь в детский дом попала – уже в польский, для сирот послевоенных.
Казалось, только река Висла прежней осталась – широкой в половодье, нешумливой в летнем зное, тихой над зимним снежком. Голубой, как и все жилки, ее питающие, где Западный Буг особым колером выделяется. Реки – руки. Вены под кожей на них – линии судьбы. Не надо быть великим мудрецом, дабы эту земную правду изречь, понять, принять как должное. Для этого требуется всего лишь малость – родиться на зеленом берегу и однажды в детстве в тихую гладь воды на себя самого взглянуть и таким, каким был на тот момент, постараться запомнить. Размоет, унесет течение портрет-изображение, по далеким перекатам и отмелям разбросает, в синее море выплеснет. Но во все века и времена, пока жизнь твоя еще теплится и прошлым живет, позовет, поведет это томное воспоминание из любых далеких краев к единственному на земле месту, где появился на свет и вырос, и называется этот клочок земли, этот затоптанный бережок – малой родиной, огромней и величественней которой на свете не существует. Словно рыба-угорь, будет возвращаться к ней на нерест-одухотворение твоя сущность из любых, самых дальних-предальних далей, а достигнув, припав к истокам, – продолжится новой жизнью, новым проявлением в тебе самом, в детях, в пространстве Вселенной.
Позвала, поманила в один прекрасный момент тоска по родине, что ностальгией зовется, и Люцину, к тому времени ставшую почти бабушкой. Почти – это по возрасту, потому что на сорок годов на тот час пани Хлюдзинская (по мужу) в день своего возвращения в детство не выглядела, хотя уже двух внучат нянчила, подаренных ей дочерью Барбарой. Собралась в дорогу – и приехала в Домачево, пересекая государственную границу по всем погранично-таможенным правилам. А когда Западный Буг на автобусе по «Варшавскому мосту» проезжала, всплакнула от горькой досады. Ведь, бывало, запросто без всяких запретов реку эту переплывала, в засушливый год по «выспам» и отмелям переходила. Ничего не попишешь – граница! Ну, а Домачево… Болит ведь и острее помнится не то и не там, где по головке гладили да пряником угощали, а где коленку, нос в малолетстве расшиб, сердце и душу поранил.
Все вспомнилось, все разом нахлынуло, когда стояла у скорбного памятника возле Домачевского тракта – знакомого и чужого своей новизной одновременно. Всматривалась в бронзовые лица своих погодков, будто узнать, вспомнить знакомые черты их пыталась. Да, это он, Толик Заславский глаза ладонями от ужаса закрыл…А эта на памятнике, выше других - Ниночкой Кагановской, скорее всего, и будет… Вот Ваня Павлюкович… Там - Коля Вакула… А где же Казя Селянская, подружка дорогая? Где Галя Зуйкова? Не хватило им места в скульптурной группе на монументе. Зато в яме той страшной все поместились без разбору возраста, пола и роста. И пани Грохольская рядышком с ними…
Путаются у Люцины мысли, сбиваются в клубок, и не распутать его, не размотать, не добиться правды и справедливости, потому что нельзя быть убитым в два, три года, в пять, десять лет, какими они все и были, вообще умирать нельзя, а в самом начале жизни тем более…
Оказывается, - можно. Не от болезни неизлечимой, не от случайности неизбежной либо по малолетнему баловству и смертельной неосторожности, - а по злой воле людей, которых такие же матери, как и нас, нарожали с грудями, полными молока, животами живородящими. Но ведь и Ромула и Рэма апеннинская волчица своими сосками вскормила! Однако волк – тварь благородная, особь звериную противоположного пола не трогает, не грызет, без голодной потребности не убивает. Этот хищник способен и Маугли выходить, воспитать. Где уж, нам людям грешным до братьев наших меньших – ни статью, ни благородством до них не дотягиваемся и навряд ли ихней лесной правды поведения и образа жизни когда-нибудь достигнем! В духовном ли противоречии, в политическом, в имущественном только худшее, оскальное у волков копируем, кровожадному зверью порою уподобясь.
Крестится Люцина в душевном смятении, мыслей потаенных, греховных устрашась. Бронь, Боже свенты … Спаси, Езус Мария, от грехопадения…
Хотела было пани Хлюдзинская к святому костелу, как в детстве, взор обратить, на храм помолиться – но бездействует костел в Домачево, закрыт уже почти полвека – сразу же после войны последней, страшной, кинотеатр «Октябрь» в бывшем доме молитвы Советы открыли. Неплохо звучит: красный «Октябрь» на улице Ленина, что к ступенькам костела асфальтированной дорогой ведет. А раньше булыжником была улица эта вымощена, телеги крестьянские на ней грохотали, на традиционную ярмарку Домачевскую съезжаясь. И костел по праздникам и воскресеньям звонами заливался, верующий народ собирая. Прошло то время и быльем поросло…
В тот памятный сентябрь 42-го года, когда Люцина покидала детдом и Домачево, казалось бы, навсегда, успела она все-таки к костелу, где первое причастие свое принимала, прибежать, взор прощальный на колокольню, на кресты шпиля бросить. Но так же закрыто было здание: только в замочную скважину на образа краешком глаза сумела взглянуть. Однако на то и война, фашистская оккупация, чтобы двери духовных храмов затворять, карами земными людей устрашать и запугивать. Помолилась тогда шепотом, вприглядку – и в дорогу, за Бугом спасаться. А не успела бы схорониться, благодаря Вале Гриневич, Софье и Леониду Буяновым, другим добрым людям, полякам и белорусам, то лежать бы ее косточкам в ямке под Копыцкой горой, в лучшем случае – париться под бетонными плитами памятника возле дороги Домачево-Брест, бронзовой ручонкой с беломраморной стелы пассажирам помахивать… Тогда уж без разницы, кто твой прах башмаком потревожит, кто твою память всуе помянет.
… В той поездке пани Люцины Хлюдзинской к памятнику и могилке детдомовцев, к костелу в Домачево, к переулкам и домишкам поселковым, где когда-то детский приют располагался, довелось сопровождать ее мне, тогда корреспонденту районной газеты «Заря над Бугом». Сразу после войны Домачево считалось районным центром, а газета, находившаяся в поселке до ликвидации района, называлась «Социалистический путь», заведший всех нас известно куда. Сейчас редакция районки находится в Бресте, проработал я в ней до своего отъезда с десяток лет, тем и горжусь. И хотя заре обновления над любимым мне и памятным по детским годам Бугом до полного и окончательного озарения (иначе мы не привыкли и не умеем) вставать еще и вставать, приезжаю я всегда в Домачево с душевным трепетом и светлой грустью – к родным могилам, к улочкам детства, к дорогим берегам.
Тогда мы Люцину тепло встретили, проводили. Со слезами встречали и провожали польскую гостью также и в семьях тех, кто спасал девочку и сберегал, – Яголковских, Семенюков. А неожиданно узнала она себя… на старой фотографии, сделанной в Домачевском костеле Непорочного зачатия Божьей Матери в день принятия Люцинкой вместе с группой воспитанниц приюта своего первого причастия. Эта фотография стараниями Василия Петровича Ласковича, почетного гражданина Бреста, тогдашнего научного сотрудника музея обороны Брестской крепости, каким-то образом попала в музей, где Люцина себя малолетней на фото и увидела. Позже снимок детдомовцев был помещен в книге «Память» Брестского района, издание которых в Беларуси затеял в свое время светлой памяти белорусский «батька» Петр Машеров. Наша редакция книгу «Память» по Брестскому району начинала собирать, что называется, с первого абзаца, в том числе и с моим участием. К окончательному изданию ее подготовил издательский центр БЕЛТА, а отпечатал ее полиграфический комбинат им. Я. Коласа в Минске.
Но не важны в этой истории авторские приоритеты, главное, что фотография с изображением Люцины Хлюдзинской (Функ) в белорусской книге «Память» имеется - и останется навсегда документальным подтверждением мною рассказанного об этой польской девочке-детдомовке, с которой до сих пор иногда по телефону созваниваемся:
«Ту Бжэст над Бугем! Дзень добры, Люцына! Як се пани ма?» - «Ту Гданьск над Вислой! Вшистко паментам, вшистких кохам! До скорэго видзення!»
Поддерживает переписку пани Люцина и с Тосей Шахметовой – той самой, что с катафалка в последний момент сумела спрыгнуть, когда детишек домачевских на смерть увозили… Встретила она на митинге и другого детдомовца – Леню Шевченко: его спас от расстрела доктор госпиталя в Домачево Новицкий. Потом малыша вместе с другими детьми забрали к себе местные жители. Леонид Шевченко и сегодня в пару километрах от скорбного памятника живет.
И как во всех книжных рассказах с классическими прологами и эпилогами, памятуя о том, что мой – не выдуманный, а самой жизнью начертанный, закончу я свое повествование отнюдь не ожидаемым традиционным заключением и глубокомысленной проповедью, а с вашего позволения, - покаянием.
Для начала приведу выписку из материалов известного всему миру Нюрнбергского процесса, поставившего юридическую точку над злодеяниями фашизма в годы Великой Отечественной войны. Вот что в выступлении помощника главного обвинителя от СССР Л.Н. Смирнова на этом процессе значится. Воспроизвожу этот документ дословно.
«Акт об издевательствах и расстреле детей Домачевского детского дома в Брестской области БССР», № СССР-634.
«По приказу немецких оккупационных властей округа шеф района Прокопчук приказал бывшей заведующей детским домом Павлюк А.П. отравить больного ребенка Ренклах Лену, 12 лет. После того как Павлюк отказалась отравить ребенка, Ренклах Лена была расстреляна полицейскими вблизи детского дома, якобы при попытке к бегству.
В целях спасения детей от голода и смерти в 1942 г. 11 детей было роздано на воспитание местным жителям и 16 детей взяты родственниками.
Вот дальнейшая судьба других детей.
23 сентября 1942 г. к 7 часам вечера во двор детского дома прибыла пятитонная машина с шестью вооруженными немцами в военной форме. Старший из группы немцев, Макс, объяснил, что детей повезут в Брест, и приказал сажать детей в кузов автомашины. В машину было посажено 55 детей и воспитательница Грохольская. Шахматова Тося, 9 лет, слезла с машины и убежала, а все остальные 54 ребенка и воспитательница Грохольская были вывезены в направлении ст. Дубица, в 1,5 км от деревни Леплевка. На пограничной деревоземляной точке, расположенной на расстоянии 800 м. от реки Западный Буг, автомашина с детьми остановилась. Дети были раздеты, о чем свидетельствует наличие детского белья на возвратившейся в Домачево автомашине, и расстреляны».
Акт датирован 1946 годом. Палачи получили по заслугам.
Все в этом обвинительном документе верно, за исключением небольшой орфографической ошибочки – фамилия Тоси правильно пишется Шахметова, а не Шахматова, как было оглашено на процессе. Суть, конечно, неизменна. Таисия - дочь председателя Домачевского райиспокома Степана Шахметова, воевавшего затем в авиации, дошедшего до Берлина и возглавившего после войны одно из строительных управлений города Бреста. Она попала в детдом в первые месяцы начавшейся войны с фашистской Германией, когда в кутерьме неразберихи, тяжких поражений советских войск и все сметающего наступательного шквала врага потеряла родителей. После расстрела домачевских детей, чудом спасшись, пряталась у местных жителей, укрывалась от фашистов за Бугом в семье польки Брониславы Курулюк, имевшей троих малолетних деток на воспитании. Нынче живет в белорусском городе Кобрине, что километрах в 50-ти от Бреста.
Недавно, а точнее в 2004 году, польский краевед Казимир Витовский издал в Польше книгу под названием «Kresy – ocalona pamiec», что можно перевести, как «Край уцелевшей памяти». Это рассказ о судьбах детей детских домов, существовавших до Великой Отечественной войны на территории нынешней Брестчины и граничащих с Беларусью воеводств Польши. Есть в этом документальном повествовании рассказ о матери автора Барбаре Витовской, о Люцине Хлюдзинской (Функ), упоминается о Тосе Шахметовой, Леониде Шевченко, других воспитанниках и воспитателях Домачевского детдома, настоятелях католического костела Непорочного зачатия Божьей матери в Домачево. Книга – воспоминание, книга - покаяние… К сожалению, за исключением редких публикаций в периодике прошлых лет, подробного основательного рассказа о домачевских детдомовцах – живых и мертвых – у нас до сих пор не издано. Быть может, это происходит потому, что слишком много накопилось в нашем прошлом болевых тем, несчастных судеб и жизней, дабы изыскать возможность рассказать людям о каждой…
Вот и я, белорусский хлопец, выросший на берегах Буга, чем чаще возвращаюсь к его тихим берегам, приезжая в поселок детства, чем чаще случается мне бывать на Висле, в других местах Польши, - тем острее чувствую вроде бы ничем не мотивированную потребность покаяния, а вид закрытых храмов, заброшенных могил и редко посещаемых людьми скромных обелисков, которыми словно полосатыми верстами уставлены большие и малые дороги и тракты родного Полесья, вызывают в моей душе трудно объяснимую щемящую тоску. Нет, я не стал с годами верующим, и присутствие костелов и церквей, равно как и других религиозных строений и символов, кроме уважения к зодчим и коленопреклоненным людям, ничем иным сознание не будоражит. «Стыдно мне, что я в бога верил, грустно мне, что не верю теперь», - написал когда-то светлый русский поэт Сергей Есенин. Он словно подвел итог будущему состоянию человечества, выбравшего на каком-то этапе своего развития атеистическую стезю, такую же непредсказуемую и ошибочную, как и все другие мировоззрения. Истина, оказывается, - в младенчестве, в текущей воде, струями манящей, в непостоянстве облаков, что, как и ты, смотрятся в заводь, и трудно понять, разобраться, какого цвета глубина – зеленого, как листья дерев на берегу, - черного, как скос земляного обрыва, - желтого, как песочное дно или - бело-голубого, как облака в небе? Но только всегда, будто всплеск горькой истинности и суровой действительности, я с ужасом детского протеста и жалости провожал взглядом плывущую вверх животом по течению мертвую рыбешку. Именно она, рыбешка вверх брюхом в волнах, во все возрасты будет восприниматься мною неестественным для всего сущего фактом насильственной смерти. И как же часто станет услужливо демонстрировать бытие ее безжалостное повторение-продолжение, помноженное в бесчисленных аналогиях!
Пришло время собирать разбросанные камни прегрешений и в мой благословенный в небесах и поруганный обстоятельствами истории Прибужский край. Буквально год тому назад открыл, наконец, двери для католической паствы Костел Непорочного зачатия Божьей Матери в Домачево. Правда, численность самих прихожан за прошедшие годы заметно убавилась. Однако нашлись люди, сумевшие найти общий язык с местными властями – и решением поселкового исполнительного Совета костел был возвращен в законную собственность католиков. Благодарить за это следует епископа Брестского деканата Збигнева Кароляка, его преемника на этом посту Казимира Великосельца, и, наверняка, белорусское правительство и президента Беларуси, сумевших создать равные условия для независимого существования в нашей республике различных конфессий. Что есть, то есть.
А подвижники духа на моей земле и не переводились. Бывший директор Домачевского Дома культуры, бессменный руководитель художественной самодеятельности поселка, музыкант, авторитет, талант – вот некоторые титулы и достоинства Евгения Брониславовича Гамзюка, уроженца деревни Пелище Каменецкого района, поляка, католика, прожившего в Домачево не один десяток лет. Он душу вложил в восстановление Домачевского костела, по крупицам собирая в деревнях по обе стороны пограничного Буга реликвии, сохраненные людьми после закрытия костела в 1948 году. Почти полвека здесь крутили кинофильмы. Пропали снятые давно колокола, разрушена звонница, пришли в упадок надгробья вокруг здания. А самого Евгения Гамзюка в свое время райком партии снял с должности заведующего поселковым Домом культуры за то, что музыкант на досуге поигрывал на органе в уцелевшем на всю округу католическом костеле деревни Чернавчицы, что неподалеку от Бреста. Как говорится, наказали за «инакомыслие». Но перевоспитали ли? Сегодня в Домачевском костеле за клавишами фисгармонии - наш знакомый Евгений Гамзюк (вернется сюда со временем и орган!), а возрожденный из небытия храм благодаря участию маэстро, возглавившего костельный комитет, сияет обновленным ликом. Что можно – восстановлено, что найдено – возвращено на свои законные места.
Считай, всем миром собирал Брестский деканат костельную утварь, предметы мебели, иконы и святыни. И служба начала проводиться здесь - правда, по выходным дням и праздникам. Возрождение пришло. А самое, на мой взгляд, символичное то, что Домачевский костел, носящий имя Непорочного зачатия Божьей Матери, продолжил священную традицию, порушенную временем, - стал своеобразным приютом для малолетних прихожан Брестского деканата. На летние каникулы, на оздоровление, на обучение Божьему слову прибывают в костел детишки со всей Брестской области. И как когда-то в детском костельном приюте, звучат под сводами храма звонкие ребячьи голоса.
Приезжает сюда и Люцина Хлюдзинская. Она просит у Бога прощения за тех своих подружек и друзей, чью жизнь оборвала фашистская пуля. Хотя в чем им каяться?! Прощения у погибших должны вымаливать все мы.
Сколь раз в детские и юношеские годы я сиживал в темном зале кинотеатра «Октябрь» на очередном сеансе, глядя на притягательный экран (телевизоры тогда были редкостью), размещенный на месте бывшего престола. Какие только киноистории и кинолетописи не разворачивались перед моим юношеским взором! Кстати, и «Войну и мир» Сергея Бондарчука, и «Пепел и алмаз» Анджея Вайды, и «Альпийскую балладу» по Быкову впервые увидел в костельных стенах. Считай, по полной программе я в божьем храме почти всю историю советского и зарубежного кинематографа 60-70-х годов изучил, влюбляясь попутно в экранных героев, ненавидя сюжетные пороки, сопереживая успехи и неудачи участников эпопей и драм. Однако и не забывал при всем этом девчат за коленки в потемках щупать, на послесеансовые свиданки подружек приглашать да на пол семечки поплевывать. Так что святость соблюдать было невдомек. Есть ли в том невольном «поругании» и «святотатстве» моя личная, пусть даже опосредованная вина? Был бы моложе, ответил бы категорично - нет. С высоты же прожитых лет – задумываюсь… А все же, все же…
Если вид возрожденного костела в Домачево людям верующим душу греет, то и мне, без Бога в голове выросшему, за своих земляков радостно - Евгения Гамзюка, Люцину Хлюдзинскую, других католиков, коим к костельных каменьям сладко колени преклонить. Раз вера ваша - так и колени ваши. Всяк волен нынче пол избранного себе храма своим собственным лбом продалбливать. Как говорится, вольному воля - блаженному рай. Мой же мысленный взор, по стенам костельным скользнув, бежит дальше - вдоль Буга по Домачевскому тракту к Копыцкой горке, где в сосняке меж песчаных бугров петляет, заросшие ямы и рытвины высматривает. Траншею расстрельную, детдомовскую время и люди давно уже здесь с поверхностью сравняли – не сыскать. Мы ее и в наши ребяческие походы в эти места обходить старались, боясь приблизиться. Нас больше привлекала разрытая яма на противоположной страшному месту стороне Копыцкой горы, там, по рассказам старожилов, в годы войны немецкий самолет упал. Детвора часами здесь копалась, песок между пальцами просеивала в надежде отыскать замечательные штучки – куски дюралевой обшивки, стреляные гильзы, а то и целые снаряженные ленты с пулями от крупнокалиберного авиационного пулемета и пушки. И, случалось, находили. Чаще всего попадались плексигласовые куски стекол и малопонятные (как нам казалось) часовые механизмы от бесчисленных авиационных приборов. Потом всем этим мы обменивались на аналогичный армейский металлолом и снаряжение, отыскиваемое в окрестностях и коллекционируемое детишками в большом количестве. В наших Прибужских краях в любом месте копни - то и гляди, наткнешься на гайдамацкую шашку времен Тадеуша Костюшки, наполеоновскую кирасу, трехгранный суворовский штык, кайзеровскую (с пикой на макушке) каску или проржавевший немецкий «шмайссер». А взрывоопасного «добра» разных калибров и видов и вовсе не счесть на любой доступной глубине. Земля, будто булыжники ледникового периода, смертельное железо из своей груди время от времени выталкивает на поверхность, отторгает, не в состоянии переварить, ржавчиной испепелить.
Вот так копались мы в детстве однажды под Копыцкой горой, а поскольку ничего существенного обнаружить не удавалось, то, утомленные и голодные, пошли шастать по окрестным сосновым взгоркам, направляясь вдоль тракта домой, в Домачево. И где-то в районе «расстрельного» места заметили белку – ярко-рыжую «ваверку», азартно прыгавшую с ветки на ветку. Тут нам загорелось белку изловить, полонить. Дело это безнадежное, если кто понимает, бесполезное, но зато мы гнездо беличье в развилке сосны обнаружили. Полезли, а там - бельчонок серенький, один-одинешенек, с еще не прорезавшимися глазками, калачиком свернувшись. Шерстка у него реденькая, тоненькая, чуть-чуть рыжеватая, серо-голубенькая шкурка просвечивает. Глупыш-несмышленыш. Ему почти все равно было на тот час жизни: к материнскому боку прижиматься или у меня за пазухой греться. Так мне, во всяком случае, казалось. Принесли зверька домой. Мать – в крик. Мол, замордуете детеныша. Ни пить, ни есть самостоятельно, да еще с рук, он еще не в состоянии. Погибнет без своей мамки.
Пришлось нести бельчонка обратно. А это километра четыре по тракту… Вот мы и свернули в ближайший лесок за костелом, а отыскав чужое беличье гнездо в сосняке, под дерево зверька и положили. В надежде, что учуют его взрослые белки, заберут, пока воронье малыша не заклюет, росомаха не утащит. Словом, одного на волю случая без попечения оставили.
Что произошло в дальнейшем с нашим бельчонком - неизвестно. Возможно, его звериные сородичи в свою семью приняли, возможно, чужим запахом пренебрегли. Хотя верится мне, что запах детства - беспомощного, беззащитного - одинаково должен роднить: и зверье, и людей.
С тех пор минуло уже достаточно много лет. Позабылся этот случай в моей памяти, вроде бы, вовсе исчез. И вот на тебе! Нахлынуло все, вспомнилось невзначай. И хотя не стал я с возрастом мнительным, но совсем не случайным кажется мне это навязчивое воспоминание, немым укором на совесть давящее, ноющее, будто зубная боль на месте корня, давно удаленного…Уж я- то и помаялся тем своим детским грехом в свое время достаточно, и горькую слезу в малолетстве за того бельчонка проливал, и винился тайком, и страшные наказания себе разные в мыслях придумывал. Стало быть - недостаточно покаяние, поверхностно и несерьезно, если вина прошлого до сих пор воображение и совесть тревожит, пусть и вина-то - пустячная, детской неразумностью и инфантильностью продиктованная, и тем, насколько можно ее облегчить, оправданная. Но только кажется мне порою, что все прегрешения людские, большие и малые, в ясном разуме совершенные и по неразумной случайности – одного греховодного поля ягода. Что копится каждое единично содеянное зло с годами и разрастается в общечеловеческом сознании непроходимыми бурьянами и чащами, и только вечное наше пред Богом, детьми и природой покаяние тропинку в этом дремучем бездорожье проторить сможет. Все в мире сущее, живое и неодухотворенное, взаимосвязано невидимыми узами, а посему хруст сломанной былинки, крик птицы-подранка, вой голодного зверя, плач обиженного человеческого дитяти, воспаряя к небесам, растворяясь во Вселенной, о неведомые человечеству иные сферы и миры отражается и в миллионы крат усиленным эхом назад же к нам возвращается, повторяясь и множась в нашей обыденности, в окружающем, в нас самих неожиданным, а порою страшным, неотвратимым резонансом.
Пусть упрекнут меня ученые мужи - светлые головы - за мою доморощенную философию, но кто из мудрецов в состоянии избавить меня от памяти о беспомощном бельчонке, быть может, мною загубленном? Кто утолит людские печали о расстрелянных фашистами воспитанниках Домачевского детского дома и сотен ему подобных? Кто исчерпает боль потомков об ушедших не по своей воле в небытие родителях? Вот так-то… Вопросить – не упрекнуть, а упрекнуть – самому и ответить, даже если ответ и не сходится. В этом, наверное, и заключается истинное покаяние, до которого каждому из нас еще дорасти следует.
Суть истинного покаяния подсказана мне, так же как и многим, знающим историю расстрела детишек Домачевского детдома, еще одним невыдуманным фактом, который из повествования не вычеркнуть, и умолчать о нем невозможно. В то место расстрельное мы, детишки, не зря ходить опасались. Сторонились его не случайно и взрослые. Слышались там голоса детские, плач неутешный. А изредка люди встречали меж взгорков и сосен фигуру женскую, обернутую в черное – будто сама Мать Человеческая над могилой скорбила, не в силах утешиться… Только после того, как здесь крест деревянный местные жители поставили, голоса и видения исчезли. Знать, только крест и молитву настоящее покаяние приемлет.
Послушав мои обличительные речи, иной скажет: «Ишь, Георгий Победоносец нашелся, умник-воитель выискался!» На что отвечу не сумняшеся: «А хоть бы и так! Но если сохраним в себе душу живу, то и мир сбережем».
Вот и весь тут сказ – понимай, как совесть подскажет.
Соображениями совсем не этического свойства, а сугубо практичными Копыцкая гора, под которой домачевских детишек немцы расстреляли, нынче бульдозерами срыта для дорожно-строительных надобностей. Правда, могилку и памятник, обустроенные ранее, никто уничтожить не посмел. Напротив, - новый обелиск убиенным сиротам подле шоссе воздвигнут. А песком с той горки бывший домачевский тракт обновлен, подсыпан и расширен, потому что по старым булыжникам, покрытым асфальтом, прошла трасса на погранично-таможенный переход «Домачево-Словатычи», что открыт на белорусско-польской границе. Здесь по всей трассе указатели стоят чин чином: километраж до границы указан и населенные пункты обозначены. У местных жителей свои ориентиры, хоть туда, хоть обратно смотреть. Главный – Копыцкая горка и детский памятник. Следующий – озеро-рыбхоз, который давно уже на месте глухих болот и зарослей вдоль дороги в районе деревни Леплевка образовался. На том озере мелководном лебеди в теплые зимы зимуют, не улетают. Еще один знаковый поворот ведет на пограничную заставу имени Александра Новикова, в просторечье «Грабовка». Тут и Буг рядышком, и мост через него со всей погранично-таможенной инфраструктурой.
Ну а я, как всегда, бугорком на ровной дорожке вылезу да каверзный вопрос-камешек под ноги равнодушному путнику-ездоку подкину:
«Ведомо ли тебе, браток, что по этой шоссейке везли когда-то детишек детдомовских на заклание, а их прах желтым песочком под нашими ногами и колесами рассыпан?»
А для пущей важности добавлю:
«Гляди, осторожно, - на фюзеляж самолетика фашистского не наступи, о пограничную фляжку, пулей пробитую, не споткнись, гильзой партизанской под подошвой не хрустни…»
Сказал бы так, да не посмею, ибо сам, сопля послевоенная, образца года 50-го, мало что видел и знаю, разве что - по родительским рассказам, книжкам и воспоминаниям людей, самую страшную войну пережившим, с которыми судьба и профессия журналистская сталкивали.
Однако чего не отнять в моем сокровенном знании – это воспоминаний о чарующих разливах-половодьях весеннего Буга, моей заветной родине и вотчине. Неизгладимы в детской памяти те славные времена, когда приходила в поселок большая вода, а люди и деревья, луга и поляны, птицы и колокола – все обитатели пойменного понизовья - радостно встречали ее живительное явление.
Давно уже отсечена бугская пойма от Домачево уродливой мелиорацией, а возведенные дамбы на берегах реки преграждают пути шалым разливам. Иссякают старицы и болота, мелеют ручьи и протоки, высыхают колодцы в деревнях на всем речном пути по обе стороны пограничного Буга почти до слияния с Вислой. Геологи и мелиораторы бурят скважины и прокладывают водопроводы там, где люди черпали воду из животворных родников и источников. Скудность весеннего омовения края усугубляется упадком Днепро-Бугского канала, не способного уже подпереть грунтовые и речные уровни своими распахнутыми настежь, пришедшими из-за ненадобности в негодность запорными шлюзами. Слабым лучом надежды на небосводе обновления мелькнуло решение о создании на территории природно-экономического Еврорегиона «Буг» международного природоохранного заповедника, в который должна войти вся сохранившаяся от вымирания пойменная территория реки Западный Буг со всеми ее старицами, озерами и протоками. Вселяет оптимизм намерение правительства и президента Александра Лукашенко возродить известные, судоходные в прошлом Августовский, Огинский и Днепро-Бугский каналы.
Польша и Беларусь протянули, наконец, через обмелевшую реку долгожданное рукопожатие. Дай-то Бог!
…Прошлой весной мне довелось сопровождать в поездке вдоль границы Беларуси и Украины с соседней Польшей журналистов самой крупной, влиятельной норвежской газеты «Афтенпостен». Глава Московского бюро издания Пер Кристиан Аале вместе со своей женой Анной по заданию редакции изучали мнения людей прибугского пограничья о готовящемся вступлении Польши в Евросоюз и НАТО. Мы ехали проселочными дорогами, останавливались в старинных белорусских и украинских местечках и деревушках, беседовали с жителями. Но прежде чем начать этот довольно продолжительный путь от Бреста до Львова, я попросил остановить машину у памятника расстрелянным детдомовцам из Домачево. Считаю, что фотография скорбного обелиска с воздетыми к небу детскими руками, как и все встретившиеся на нашем пути памятники последней войны, останутся в объективе и в памяти норвежских гостей восклицательными знаками. Лучшего ответа и реакции на приближение НАТО к нашим границам и понарошку не придумать и не сыскать.
А Буг - плыне. Висла плыне. И так будет всегда.
© Александр Волкович
Если Вы располагаете информацией о Домачево или у Вас возникли вопросы, ждем ваших писем по адресу:
При использовании материалов с сайта ссылка на сайт обязательна
Разработка и дизайн сайта: © www.domachevo.com Прокопюк И. (2006-2021)


