Меню:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Сайт в соцсетях:
Герб Брестского района
(утверждён в 2001 г.)
Герб Брестской области
(утверждён в 2004 г.)
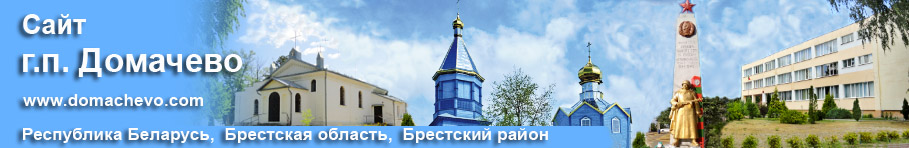
Александр Волкович
ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ В ДОМАЧЕВО
Весной на меня нападает необъяснимая грусть, излечить которую можно только единственным способом: сесть в автобус и поехать на родину своего детства - в поселок Домачево. Это совсем недалеко от областного центра, и даже ближе, чем может показаться. Туда проложено добротное скоростное шоссе, а прежняя утомительная грунтовка вспоминается, как нудный далекий перезвон: и толком не расслышать, и не знаешь, когда он закончится.
Каких-нибудь полчаса пути - и вот она, малая родина, приветствует одноэтажными домишками за серым штакетником и привычным квадратом центральной площади, конечной остановкой пригородного маршрута.
Под ногами - относительно новый асфальт с пятнами дизельной отработки. Стародавний булыжник, бугривший площадь в мои юные годы, угадывается разве что по наитию. Если поднапрячься, то забрезжит в памяти глубокая сдвоенная колея в каменном ложе главного тракта-гостинца: след крестьянских телег еще с местечковых, "запольского часа", ежегодных Домачевских ярмарок.
"Следа и след простыл", - острю по привычке.
Заливали асфальтом дорогу и площадь в мое отсутствие.
Но те же каштаны и клены в сквере - будто давнишние друзья - оживились свежей зеленью, и приветствуют вполне еще бодро.
Здесь каждое лицо знакомо, а каждый столб - свояк.
- Здорово, Санёк! Ты чего?
- Да так, приехал подышать.
- Ну-ну... Как дела? Нормалёк?
- Как в Польше - у кого больше, тот пан, - отвечаю бывшему однокласснику расхожей в наших краях присказкой и улыбаюсь неизвестно чему. "Больше" - считается, денег. И только?
Приятель приветливо щеголяет вставными зубами. Часть из них - рандолевые, под мельхиор, другие - стальные. "Не все золото, что блестит!" - отвергал он, как помнится, замечания по поводу "привкуса" разных металлов во рту.
Кажется, дилемма оказалась ему не по зубам: такой же легкомысленный, шебутной, каким я его и знавал. Коронки не поменял.
- Зайдем? - кивает дружок (зовут его Иваном) в сторону чайной, что почти впритык к остановке.
Забегаловка в центре - полустоловая, полукафе - как входной контроль. Коль приехал, значит, положено отметиться. По-другому не принято. Не поймут.
Садимся за столик, покрытый салатового цвета пластиком.
Столы, колченогие стулья на тонких ножках - модерн 60-х. Давненько же я здесь не сиживал!
На стене - уродливый бусел, налепленный кусочками белой фаянсовой плитки. Птице явно не хватает простора - упирается вытянутым клювом в край картины.
Плиткой, только желтого, больничного цвета, выложен пол со следами недавней очень даже влажной уборки.
В лужицах на гладком кафеле отражаются окна и купаются ветви каштанов.
Редкие посетители перешагивают хрупкие стекла в зеленых разводьях листвы, опасаясь раздавить.
- Давно летит? - спрашиваю Ивана, уже откупоривающего запотевшую бутылку.
Он поворачивается за моим кивком к мозаичному панно, пожимает плечами:
- Кафе переделывали столько раз, не помню, когда последний. А мозаику с буслами, кажется, Савич лепил. Вместе с сельповской бригадой шабашили. Пили на открытии, аж гай шумел!
Подзабытая фамилия оживила воображение.
Да, да, Савич, как же, помню... Маленький мудрец с глазами печального кролика. Это у него от непонимания и злоупотребления. Непризнанный гений Савич, создавший бескрылого аиста в кафе, считался главным поселковым зодчим-оформителем. Если, конечно, где-то и числилась такая должность. До сих пор не знаю, где художник работал. Его конек - лозунги на транспарантах, выполняемые белой гуашью по красному сатину к майским праздникам и к годовщинам Октября. Ваял пламенные призывы пачками. Всем организациям праздничные заказы выполнял: для школы, больницы, почты. А на бильярде старику не было равных. Как-то в поселковом Доме культуры - по-местному, клубе, где стоял большой стол зеленого сукна, Савич, будучи в хорошем подпитии, на спор расколол одним ударом полосатый шар. Раз - и две половинки. Как яблоко. Мы, пацаны, еще прикладывали их одна к другой: можно ли склеить... Хитрюга-художник посмеивался: "Он же меченый!"
- Умер Савич. Уже давно. Ты тогда в армии служил. Помянем?
- Давай.
Помолчали. В груди потеплело не столько от чарки, сколько от давнего, забытого, щемящего. Куда ж от всего этого денешься?! Казалось бы, напрочь выветрилось из сердца и памяти, а стукнулся шар о шар - и раскололась душа, затосковала... Нет, чтобы угомониться, устаканиться...
Коварная все-таки это затея - поездка на малую родину...
Дружок, уводя минор в сторону, перевел разговор на другое, веселое:
- Трибуну на площади помнишь? Ну, ту, которая провалилась?
Еще бы! История с рухнувшей октябрьской трибуной - настоящий "цирк на дроте". В пору нашей пионерской юности в день Великого Октября на площади ежегодно проводился митинг. Трибуна стояла, словно крейсер "Аврора" на вечном приколе. В будние дни в недрах дощатой коробки лазали пацаны, распивали вино местные наркоты. Захаживали за трибуну и по малой нужде: ведь рядышком с магазинами, чего уж там стесняться... Демонстрантов собиралось достаточно много, считай, все взрослое население поселка. Праздник был как праздник - с оркестром, транспарантами, флагами. И, конечно же, - с почетным президиумом из числа местных шишек. В тот раз на деревянную "аврору", построенную по образцу и подобию московского мавзолея, взобрались по лесенке человек пятнадцать - председатель поссовета, директор местного совхоза, директор промкомбината, председатель сельпо, другие начальники и ветераны, в основном граждане солидные. Там были еще люди из района, но я и тогда не знал их фамилий, а нынче и подавно. Самые уважаемые и, надо полагать, самые достойные, оказались... самыми толстыми. В каждом было не меньше центнера. Деревянный настил не выдержал - и палуба, на которой стояло "партийно-советское ядро", под тяжестью туш рухнула. Снизу, с площади услыхали лишь громкий треск и увидели взмахи исчезающих рук и шляп. Только-только из микрофона прозвучали слова здравицы - и на тебе... Президиум пошел ко дну.
- Кажется, никто шею не свернул?
- Да, но - облажались. Потом участковый допытывался: кто трибуну убирал, флаги развешивал, кто красил... Даже подпил искали. А трибуна ведь столько лет простояла, прогнила... Такой вес!
При последних словах друга детства я хотел было скаламбурить на тему прогнившей советской власти, но застеснялся. Грешно зубоскалить да ёрничать по больному...
Веселого продолжения затронутому эпизоду не получилось. Мы разлили недопитое в стаканы и решили посидеть еще, а потом прогуляться на мост - есть такое в Домачево заветное местечко.
Я припомнил подробности той истории. В принципе, ведь ничего смертельного не произошло: ну, провалился настил, ну, попадали важные пузатые дядьки, будто в оркестровую яму, а потом выбрались наверх - кто с оборванным рукавом, кто со ссадиной на лице: смеялись, отшучивались, сглаживая неловкость. Шляпы свои искали. Конфуз - и не больше. Зато разговоров, смеху было потом хоть отбавляй. Правда, местное начальство ходило недовольное, хмурое: получилось что-то вроде дискредитации власти.
А мне запал в память один пожилой ветеран с медалями на пиджаке - он натурально, искренне и горько... плакал. Не думаю, чтобы уж сильно ушибся и ему нестерпимо болело или до слез было жаль праздничных брюк, распоротых по штанине до самого бедра.
"Стыдно-то как! Первый раз пригласили на трибуну, и на тебе... - бормотал он, как бы причитая. И столько было неподдельной горечи в похожем на всхлипы речитативе, что мне стало за человека очень обидно... Нелепый, дурацкий, случай, ему казалось, перечеркнул все прежние заслуги, всю достойно прожитую жизнь...
События дней минувших настроили на философский лад. Но стоит ли утруждаться высокими материями, когда весна, вокруг дышит малая родина - цветет, благоухает, и щербатая улыбка постаревшего одноклассника до боли знакома, и не раздражает вовсе, а узнаваемо привычна.
- Да, вспомнил! Это ведь Тома Гримблат слюни пускал! - непроизвольно вырвалось у меня.
- Тома? С него станется. И не такие фортели выкидывал!
При упоминании подзабытой фамилии каждый из нас, я уверен, подумал о Людочке Гримблат... Была такая ученица в нашей школе, старше меня года на три. Её уже нет...
Как по заказу, неясный девичий облик проявился в мокрых разводах на кафельном полу, в отражении зеленых каштанов, заглядывающих в помещение сквозь хрупкую преграду.
"Как же она выглядела?" - силюсь вспомнить, но как ни пытаюсь представить что-то даже отдаленно похожее на Людочку Гримблат, ничего путного не выходит. Рисуется рыжее, смеющееся, плачущее, в фартуках и бантиках, школьное, буднично- разнообразие лиц и образов без каких-то ярких узнаваемых деталей. Столько лет прошло...
За соседним столиком стали рассаживаться незнакомые мужики; задвигали стульями по кафельному, больничному полу.
Железо по плитке противно визжало.
Резкий протяжный звук сверлил дырку в розовом мармеладе умиления, готового еще секунду раньше залить меня по уши приторной ностальгией.
Безуспешно взлетавший бусел сложил куцые крылья и, неожиданно спикировав, долбанул клювом по макушке.
- Санька, привет! Никак пожаловал в родные края?
Голос из-за спины принадлежит не аисту, безнадежно зависшему на стене, а, конечно же, моему бывшему соседу. Для него, почти вдвое старшего, я так и остался "Санькой", а он для меня - "дядей Володей", отцовским сослуживцем.
- Присаживайтесь, дядя Володя! Обмоем встречу. Ванька, повторить! - протягиваю дружку новенькую "десятку".
Иван подхватывается с места и направляется к буфетной стойке. Как и в далеком прошлом, дружок с готовностью реагирует на панибратское "Ванька", и не иначе, и ничего уничижительного в обращении нет. Привычка.
Застольное общество приобретает достаточный минимум для подобного рода посиделок. С глазу на глаз у нас бы ничего не получилось. Гоняли бы впустую шары-вопросы по столу, раскатывая банальную "пирамиду"-карамбольку: в лузу - отлично, в борт - обойдется. Редко попадешь ненароком в меченый шар, чтобы тот раскололся... Другое дело - на троих...
Официантки - вспомнившие, опознавшие и готовые услужить редкому гостю - подносили закуску без задержки.
- Вы про нас ничего плохого не напишете?
- Ага, блин, завернул ностальгирующий Робин Гуд в родную корчму - грязные общепитовские тарелки расстреливать!
- А стрелялка еще ничего? Прицел не сбился? - парировали озорные молодицы.
"Ого! Здесь меня еще помнят..." - опешив, но с удовлетворением отмечаю про себя.
- На кладбище уже был? Сегодня ведь Радоница... - спрашивает-напоминает между очередным поднятием стаканов дядя Володя.
- Схожу обязательно. Затем и приехал.
На кладбище, к отцу, я решил явиться в последнюю очередь, под занавес. Чтобы потом уже ни с кем не встречаться, попусту языком не чесать. А сразу - в автобус. После погоста, родных могил - по себе знаю - переключаться на легкий треп не лежит душа...
Но уже зацепило.
Сегодня - день поминовения усопших., Радоница.
Поселковое кладбище от площади - рукой подать. На секунду представляю дорожку, ставшую для меня, к сожалению, традиционно-обязательной. Через сосновый предбанник. Как будто специально природой создано: сосны на подходе к погосту старые, корявые, и так уж коробит их морщинами дремучих стволов, так наизнанку ветвями выворачивает, что становится не по себе от их застывших болячек. Там хвоя зеленая до черноты, а ярко-оранжевая облицовка верхних ветвей горит нестерпимым укором. Смолистый воздух - словно чистилище. Проходишь под сенью - будто через туннель. Голову долу силой клонит. Всякий раз подвергаешься омовению - и туда, и обратно. Мистика? Но тянет магнитом.
Туда успеется. Выходить из-за стола еще рано. Подожди, родимый погост, со своим очистительным предбанником. Подождите, каштаны и клены за окном. Вас не мину. Разговор с земляками только набирает обороты.
Тема уже обозначилась - о тех, кто не с нами...
Ну, что там новенького про знаменитого Гримблата? Мне, вроде бы, все о нем известно...
- Укатали сивку крутые горки, - с сожалением в голосе отвечает дядя Володя.
Ванька утвердительно кивает головой. Для наглядности щелкает пальцами по кадыку. Подтверждает. Взгляд отводит. Знать, рыльце в пушку, не в пример малопьющему шоферу Володе (тот, правда, уже на пенсии). Грешен дружок... Идиотизм сельской жизни и его доконал.
- Оно тебе надо, Санька? - колеблется бывший сосед. Однако, понимая, что я не отстану, начинает рассказывать.
Беседа, свернувшая в наезженную колею, продлится, как окажется, довольно долго.
Ванька активно вспоминал недостающие подробности и добросовестно фланировал между столиком и буфетом, подживляя общение и память дополнительным горячительным.
Чего и следовало ожидать, хмель настроения мне не поднял, но и голову не задурил.
Хотя минор и водка брали своё. Впрочем, держались мы трое довольно прилично. Никаких казусов за нами не наблюдалось. За исключением разбитого стакана и легкой перебранки Ваньки с незнакомыми соседями, шумевшими рядом.
Людкино забытое лицо, казалось, белело на дне общепитовского "хрусталя", а навязчивое воспоминание предстало живой картинкой. Называется этюд "Сыродавка". Бытовала в нашу шалопутную школьную юность такая игра-забава: зажать девчонку-школьницу - помягче и потолще - в укромном углу и всей толпой оголтелых лоботрясов давить из нее "сыр". Под шумок, исподтишка, хватая шаловливыми ручками за интимные, запретные девичьи места...
В такие моменты конопатая жертва оглушительно визжала, мужественно отбивалась тяжелым портфелем с учебниками, а прыщавые недоросли изнывали от сладостного восторга безнаказанности и потаенных, почти взрослых желаний...
Одним махом проглатываю вместе с остатками водки терпкое воспоминание, но следом накатывается очередное: похороны Людочки Гримблат. Рваные картинки, прерывистые - как давнишний похоронный марш на кладбище: строгие дядьки в черных официальных костюмах при галстуках, томительные музыкальные паузы и неожиданный, дребезжащий звон литавр в самом неподходящем месте скорбной мелодии. Удар по тарелке - и душа замирает от резкого взлета. Как на качелях. И приглушенное шушуканье любопытных теток за спиной испуганного мальчишки, стоящего поблизости вырытой могилы с грудой сырого желтого песка по краям. Сбитый с толку, ошарашенный погребальным ритуалом школьник озабочен единственной ужасной мыслью: "А вдруг подтолкнут - и я свалюсь в глубокую яму?!"
Назойливый шепот, казалось, залазит за шиворот:
"Бедняжка! А все мамка! Привыкла обвешивать в магазине, жидовка..."
"Да русская она, кацапка... Гримблат ее из-под Ленинграда после войны в Домачево привез. Людка, выходит, только наполовину еврейка".
"А я-то думаю, почему на православном кладбище хоронют!"
"Тсс... А что, теперь Богданиху как главную виновницу посадят?"
"Откупятся. Они, евреи, такие... За подпольный аборт родителей-соучастников по головке не поглядят...А Богданиха и не признается, что ее рук дело...Заплатить кому угодно можно".
"Говорят, спица ржавая попалась. Богданиха сослепу не заметила".
"Да нет! Спички закончились. Отсырели. Прокалить инструмент не на чем было. Никакой дезинфекции...Заражение крови..."
"В поселке балакали, мол, Готлиб, главврач наш поселковый, сильно уж по Людке сокрушался, когда ту с кровотечением привезли. Мать ее на чем свет крыл, а всегда вежливый такой, обходительный. Кричал: темная ты женщина, баба глупая ... Аборты давно уже официально разрешены! Ну и что с того, что малолетка?! Родила бы за милую душу. Нянчили бы сейчас внука, радовались вместе с дочерью, земля ей пухом..."
"А ты бы, куда делась, если б твоя Нюрка байстрюка в подоле принесла?!"
"Моя не принесет! Не в пример некоторым..."
"Чья бы корова мычала!"
"Э-ээ!
Голоса сзади замолкают. Толпа подталкивает меня еще ближе к страшной яме. Сыплется вниз песок, сползает мимо накрененного одним концом гроба; вижу перед собой только широкую спину соседа дяди Володи и его красную, потную шею; толстая пеньковая веревка впивается наискосок через эту спину; "трави! трави!" - сдавленным голосом командует он напарнику напротив, и я не могу понять значение этого слова...
В этот момент раздается дребезжащий звон тарелки; трубы оркестра оглушительно взвывают - и гроб, как по команде, вначале выравнивается, а затем исчезает из виду, отзываясь глухими звуками падающих комков земли. Первые в моей жизни похороны...
Обступившие яму мужики, сменяя друг друга, торопливо орудуют лопатами. Спешат. Куда? Зачем?
"Четверым надо было, четверым!" - зло выговаривает дядя Володя запыхавшемуся помощнику, одетому не по сезону в новенькую фуфайку.
"Доски сырые. Тяжелые", - оправдывается тот и добавляет с совсем не уместной, как мне казалось, ухмылкой и без всякой видимой связи:
"На троих всегда лучше!"
Судя по его розовому лицу, мужик находится под хмельком.
Никто на него даже не оборачивается...
А я опять не могу взять в толк взаимосвязь услышанных слов и причину недовольства моего соседа, опускавшего на веревках перед этим с двумя помощниками. Людкин гроб, оказавшийся неподъемным.
Путаюсь ногами в мотках каната, облепленного сырым песком, впопыхах забытого могильщиками...
"Куда его сейчас? - почему-то возникает дурацкий вопрос.- Корову привязывать?"
- Вот я и говорю... - вырывает из затянувшейся петли воспоминаний голос дяди Володи. - Как только приблизилась годовая по Людке, Тома затеял ей памятник. Мраморный. Сами, небось, видели...
Постамент черного мрамора с выбитой фотографией Людочки Гримблат находится неподалеку от могилы моего отца. Батяня смотрит на посетителей погоста строго, задумчиво, а несчастная Людочка (вспомнил!) улыбается с овальной фотографии растерянно, недоуменно, как бы вопрошая: "Что вы со мной сделали?"
Снимок, очевидно, выпускной: девушка в белом школьном фартуке.
- Уйму денег Гримблаты угрохали, - продолжает сосед. - Мраморные плиты, надписи, ограда. Но это только начало...
- Дерут за памятники как хотят! - встревает злым голосом Ванька. - Спрос опережает предложение. За моего батьку знаете сколько тыщ заломили? А ведь не натуральный мрамор, так себе - крошка...
- Подожди, Ваня. Гробовые расценки известны. Вы, хлопцы, тогда мальками плавали, всего не знаете...
- А что знать? - продолжает гнуть упрямую линию Иван, начавший на глазах терять тормоза и превращаться из суетливого малька, каким сосед обозвал нас по старой памяти, в нахрапистого взъерошенного окуня. - Ну, нагуляла Людка с каким-то приезжим хахалем, ну, втихаря бортонулась. Мамаша сдуру подсуетилась. Это в наши годы страху было под самое немогу! А сейчас, тьфу... Девкам нынче от дитёнка избавиться, как пописать... Тома, малохольный, наверняка, до последнего считал, что дочка вавку пальчиком расковыряла... Втюрили папочке: женская болезнь, дурная наследственность... Он, лопух, и поверил.
- Ванька! Закрой рот! Оскалился...
- Действительно, Иван! Люди же кругом...
- Ты чё, Сань, на коронки мои намекаешь? Какие уж есть... Это ты у нас городской, по "ультрадентам" шастаешь, пломбы какие хошь примеряешь. А мы - сельпо, не взыщи! Наливай!
Дядя Володя неодобрительно качает головой, морщится, словно от зубной боли. Не нравится ему наш разговор, ох, не нравится... И Ванька, баламут, на рожон ни с того ни с сего полез.... Дались ему эти коронки... Ваньке только для запаха глоток нужен, а дури и своей с избытком хватает ... Знакомо до чертиков.
- Гримблат такое завертел - у поселковых уши завяли! - возвращается к начатому рассказу дядя Володя и продолжает: - Тома заявил на поминках: хочу, мол, на могиле родной дочери Вечный огонь зажечь. Чтоб все видели и помнили.
- У него, что ли, крыша с горя поехала?
- Если бы так! В здравом уме предлагал... По трезвянке и на полном серьезе. Народ думал, это временное у него помутнение: дескать, сказанул прилюдно сгоряча, через день-два забудет... А Тома своё - буду, говорит, мраморную чашу устанавливать, газовый баллон приспосабливать...Гореть огню в любую погоду. И зимой и летом. Как на столичных пантеонах или на могиле Неизвестного солдата... Меня, говорит, государство как участника войны поймет и простит. И что вы думаете? Давай они с Савичем проект разрабатывать, эскизы чертить... Шабашники, что памятник ему лили, - они по другому заказу в Домачево задержались - про это дело прослышали - и моментом чашу для Вечного огня дуралею сварганили и за большие деньги всучили. Обошлась она Гримблату в копеечку, мать их за ногу! С газом, правда, заминка вышла... Надо было в областном центре договариваться, раньше, как помните, газа в районе вообще не видали - ни по трубам, ни в баллонах... Тома - в горгаз. А там как узнали что к чему, уперлись: отпуск газовых баллонов на ритуальные цели не предусмотрен. Получишь разрешение - нет проблем. А на кладбище уже монтаж вовсю шел...
- Сразу бы набить жиду морду - и дело с концом! - продолжил рожденную выпивкой агрессию Ванька.
- Ему тоже не сладко пришлось, - рассказывает, не обращая внимания на Ванькину выходку, дядя Володя. - Потаскали в милицию, в поссовет... За Вечный огонь. Дескать, дискредитирует своей затеей память жертв Великой Отечественной... Тома, как услыхал такое обвинение, участкового за грудки схватил: кричал, мол, пока ты под стол пешком ходил, я в Синявинских болотах мерз, город революции Ленинград защищал. А такие, как ты, красноперые, мне в спину из заградотрядов стреляли, чтоб в тыл не побег. А он, значит, Тома, к фрицам личный счет имел, потому всю блокаду с передовой - ни на шаг...
- Посадили? За "красноперого"?
- Не... Попугали только. Велели в район ехать, к первому. За разрешением...
- И что?
- Что, что... Куриное капшо! Тома в чайной мужикам рассказывал, как у первого секретаря райкома партии на приеме был... От ворот поворот...
- А формулировка?
Это опять Ванька. По-видимому, труднопроизносимое для него слово застряло в прорехах между зубами, поэтому прозвучало "фомулиловка" или "фодмалимовка", словом, не очень ловко - а это уже мой каламбур...
Никогда не мог бы подумать, что наш, поселковый тихоня Гримблат окажется в центре скандального внимания... А что я, собственно говоря, о нем знал? Отец Людочки Гримблат - и только. Во всех отношениях был человек незаметный, положительный. Экспедитором в сельпо работал. В костюме и при галстуке в будние дни ходил. Не какой-нибудь зачуханный грузчик "подними-подай"... На кларнете в клубном оркестре играл. Еще - медалями на пиджаке в праздничные дни звенел. Его, правда, в президиумы почти никогда не приглашали, обходили, так сказать, вниманием... Зато в День Победы вокруг Томы - пир горой... Угощал "фронтовыми" ста граммами всех без разбору. А каждый из пацанов мог, в наглячку, к пьяненькому ветерану подвалить и рубль, а то и горсть "Золотого ключика" запросто от него получить. Можно сказать, единственный раз в году напивался.
Помнится, любил собственноручно нам конфеты скармливать. Развернет, бывало, фантик, а коричневую, спрессованную кирпичиком начинку в рот ребятенку аккуратно положит...
"Кушай, - говорил плаксивым голосом, - кушай, сиротинка..."
"Не сирота я, дядя Тома! Мамка ведь есть. Папка на почте работает. Вы же знаете!"
"Все равно вас жалко, последышей..."
Такая у него была формулировка...
"У Гримблата всю семью от первого брака вместе с его родителями фашисты расстреляли в Домачевском гетто, - рассказывала мне, повзрослевшему, мать. - Тетя Мария, которая продавщицей работала, - это вторая жена. Говорят, она санитаркой на Ленинградском фронте вместе с ним служила и после контузии выходила. Гримблат на родину в Домачево после войны вернулся - а тут голо... Уже после свою Марию на жительство вызвал, замуж взял. Людка у них уже здесь родилась... На три с половиной года тебя старше..." - "А почему дядя Тома всех детишек последышами называл?" - "Кто ж его знает... Наверное, войны последышами. Как и все вы, четверо, у меня..."
Все это мне враз вспомнилось, навалилось, и неуютно стало за шатким столом. Даже - скверно. Для разминки попытался представить себя на месте Томы Гримблата, побывавшего на приеме у первого секретаря райкома партии товарища Рубана (был у нас в районе такой). По тем временам - не каждому удавалось. А Гримблат - прорвался. И возлагал на встречу большие надежды. Мол, как поеду, да выскажу, да как все вокруг меня, орденоносца, завертятся.... Как никак, - единственная дочь...
Ага! Щас! Забегали!
Рисую в воображении ситуацию, по ходу ее домысливаю:
...- Ты о чем просишь, фронтовик?! - громогласно вопрошает товарищ "первый", с трудом выкроивший время в перерывах между заседаниями для беседы с неплановым визитером.
Секретарь в упор глядит на оробевшего, тщедушного ветерана в хлопчатобумажном, помятом костюмчике с орденской планкой на лацкане, в круглых, с двойными стеклами очечках, нервно теребящего тонкими худыми пальцами выходную, с дырочками для вентиляции, летнюю шляпу.
- Да мы еще сотням тысяч погибших простую оградку поставить не в состоянии, а ты со своей белибердой! Постыдился бы предлагать пустое, солдат! Давай уж слезами вместе зальемся да утопим в них каждую болячку! И расстрелянными в Домачево евреями в глаза мне не тычь. Знаем. У меня сев во где сидит, а ты ... Извини, не до кладбищ!
Услужливое воображение рисует картину дальше. Получается она у меня предельно лаконичной, как умею... А как иначе?
...Товарищ Рубан, демонстрируя степень партийной загруженности, лупит ребром ладони по начальствующему загривку.
Большими глотками пьет воду из графина и морщится. Вода несвежая, теплая...
(Графин, по моему разумению, должен присутствовать обязательно...).
Посетитель воспринимает гримасу недовольства на лице "первого" непосредственно в свой адрес и теряется еще больше.
Любой бы другой, оказавшись на его месте, железными доводами, я уверен, поперхнулся бы и водой холодной уязвленную гордость запил...
А может быть, было совсем по-другому? Откуда нам знать...
... Меня начинает мучить жажда. Бутылки на столе пустые. Достаю из заднего кармана брюк портмоне.
Сидевший напротив Ванька просек мое движение и торопливо лезет за деньгами.
Раскладывает на столе мятые денежные купюры, разглаживает. Ванька, как и прежде, по-своему гордый. Хоть рубль, но добавит.
Дядя Володя решительно вынимает дежурную "заначку" и протягивает мне. В общую кассу. Разговор еще не закончен. Отделяю "мух" от "котлет", излишек протягиваю Ваньке. На опохмелку. На завтра.
"Давай, Вань, принеси еще. Не забудь минералку".
Что там дальше?
- Не знаю, как другие, а я Гримблата уважал! - делает неожиданное резюме дядя Володя. - Имел загогулину мужик, не какая-нибудь амеба... Семью одну и вторую потерял, но не сдался. Хоть по дурному, но упирался... Во! Мягкий кремень он, точно!
Мой сосед, удовлетворенный метким словечком, даже покраснел от удовольствия и продолжил рассказ.
Нам с Ванькой некоторые факты из его баек оказались в диковинку, поэтому слушали, не перебивая. Что мы могли помнить и знать? Мальки.
Как поведал сосед далее, вполне очевидно, что Тома внушению секретаря райкома внял и от бредовой идеи вроде бы отказался - работы по установке Вечного огня на могиле покойной дочери свернул. О чем шептался с женой, какие прожекты обсуждал с "раскольником" Савичем - никому неизвестно. Но подгулявший в очередной раз его дружок и соучастник проболтался: дескать, намылился Тома аж на Севера - деньгу заколачивать. Вернется на белом коне, а там, гляди, и обстановка изменится, начальство в районе поменяется. Может статься, что и разрешение на установку Вечного огня дадут. Возможно, не на Людкиной могиле ему гореть, а на братской, где военные жертвы захоронены. Почему бы и нет? Одно другое перекроет.
"Тебе-то уж точно "белый конь" светит!" - предсказали наиболее дальновидные и трезвые мужики хвастунишке Савичу и оказались правыми. Не прошло и года, как Савич загремел в наркологию с белой горячкой. Допился. А вышел из больницы, то принялся рисовать буслов. Только какими-то нестандартными они у художника получались...
А Тома действительно рассчитался в сельпо и уехал. Где его носила нелегкая, выяснилось много позже.
Обо всем этом дядя Володя доложил столу почти тезисно. Ванька, как абориген, только поддакивал, иногда вставляя замечания...
Томина северная эпопея совпала по времени с периодом повальных поездок местных мужиков на заработки. Работы в поселке не хватало. Тома, скорый на подъем, - как-никак бывший фронтовик - увязался следом за какой-то бригадой и угодил за компанию на угольные шахты Воркуты. Еврей в угольном забое звучит вообще-то анекдотично, однако наш домачевский Тома за Полярным кругом побывал и даже, по словам очевидцев, вкалывал месяцев восемь под землей в настоящей угольной лаве, где и угодил в аварию. Цепью транспортера бедняге перебило ногу, и после неудачной операции нижнюю конечность незадачливого шахтера пришлось ампутировать по колено.
Вернулся Тома на протезе - с обмороженным красным лицом и бешеными глазами. Зато после всего с ним случившегося стал запросто, на равных, сиживать с завсегдатаями поселковой чайной, заправски стуча по столу сушеной воблой и расплескивая пиво в бокалах, поглощаемое им вместе с водочкой в немерянном количестве.
Савич, верный друг и соратник, к этому времени уже помер. Идея Вечного огня на Людкиной могиле, подпитываемая в том числе и опальным художником, зачахнув в бесплодных разговорах, постепенно угасла. Собственно говоря, общественное обсуждение проблемы иссякло еще на первоначальной стадии, когда поселковому большинству и без того было ясно: Тома Гримблат не туда зарулил. Вечный огонь - дело государственное, не каждому по статусу и заслугам полагается. Конечно, жалко Людку, но что попишешь... Ничем ей уже не помочь.
За каким рожном Тома ездил на заработки, за что боролся, как-то само по себе забылось. Никто в поселке об этом уже не вспоминал. До поездки Тома, все знали, особо пьянством не грешил, но, вот, потерпев жизненный крах, ничего из искомого не приобретя, разуверившись и потеряв, как думается, не одну лишь ногу, очерствел, заматерел, вошел в роль - и удержу бедолаге с тех пор уже не было. Соответствовал из последних сил.
А потом его вообще разбил инсульт...
В данный эпизод встрял Иван. Почему-то перейдя на шепот, он вспомнил, как Гримблат, которому на тот момент парализовало половину тела, и у него отказала вторая, здоровая, нога, раскатывал средь бела дня по свежезаасфальтированной центральной улице поселка на инвалидной коляске, принципиально не уступая дорогу проезжавшему транспорту. Машины, сигналя, объезжали его, от греха подальше. Угощать конфетами ребятню ветеран не перестал. Однако детишки пугались его отрешенного вида и к инвалиду не подходили. И еще Тома жаловался собутыльникам, что, дескать, на инвалидной коляске ему стало трудно добиться до могил, где родные лежат. Понарыли где попадя, не проехать...
Обо всем этом я услышал впервые...
- А что Гримлат так и помер бобылем? - задаю последний вопрос, но лучше бы не спрашивал...
Ответ ошарашил:
- Сгорел бедолага... Напился пьяным, заснул с сигаретой в зубах - и сгорел. Задохнулся в дыму, - помрачнел дядя Володя.
- Придурок..., - добавил Ванька, однако осуждения в его голосе прозвучало гораздо меньше, чем сожаления и досады...
Похоронили Тому рядом со своими на православном кладбище. Других родственников в Домачево у них не осталось. Местный батюшка вначале возражал, чтобы покойника-еврея везли сюда, предлагал похоронить его на заброшенных еврейских могилках, за поселком - а это возле военного захоронения узников Домачевского гетто, - однако было решено семью Гримблатов не разлучать - и все оставили как есть. Вечная им память. А Бог, как известно, един... Он всех и за все простит...
... - Ты чё, Санька, никак поплохело? Может, на воздух? - вырывает из задумчивого оцепенения знакомый голос. Принадлежит он дяде Володе.
Ванька бесцеремонно трясет за плечо.
Слетевший со стены аист, пытаясь меня растормошить, со второй попытки бьет клювом по макушке.
Выплываю из мимолетного забытья, похожего на внезапное отключение: шевельнулся сетевой червь, троянским конем дремавший в мозговой компьютерной системе, и - вырубивший ее.
Все в порядке. Вирусная атака отбита. Спасибо дяде Володе и... буслу.
Хватит историй и ностальгических терзаний. На свежий воздух!
Выходим на улицу.
Ванька, как и договаривались, готов сопровождать меня на поселковый погост. Заодно и своих навестит. А выглядит - почти "готовальня". Слабак.
- Погодите, хлопцы! - останавливает нас дядя Володя. - Сегодня на кладбище поминальная служба. Заявитесь с такими портретами?
Конечно же - показываться на людях в подпитии нежелательно. Вид у моего дружка, да и мой, отнюдь не товарный. А на кладбище соберется масса знакомых. Дядя Володя как огурчик. Правда - ростом почти в два метра. "Не скоро дотечёт!" - обычно шутит он. Молоток! Хоть и в годах. Нам с Ванькой, при всем старании, стать кувалдами не суждено...
- Пиши имена, Санька. Кого еще надо помянуть кроме отца? Передам батюшке. Сегодня всех будут отпевать. По списку...
Торопливо набрасываю в блокноте: "Михаил, Анастасия, Анатолий..." Это отец, бабушка и мамин брат.
Поколебавшись, дописываю: "Людмила"...
Дядя Володя забирает вырванный листок и своей рукой проставляет перед каждым именем: "Раб Божий... Раба Божья...". Так положено.
В свою очередь решительно пишет: "Раб Божий Тома".
В прошлом он вместе с Томой Гримблатом работал в сельпо шофером.
- А вы оба, лежа подравнявшись, дуйте поближе к речке! Проветритесь - жду вас на кладбище, - сопровождает нас шутливым напутствием.
Возле реки, у воды быстро прихожу в себя. Зябко поеживаюсь. В воздухе какая-то тревожная прохлада, до этого не ощутимая в чайной, пока взбадривало спиртное. Каждую весну вот так: вроде бы тепло вовсю грядет, расцвело - и на тебе, похолодание...
Ванька ретировался по пути - побрел спать к себе домой. Но я бы и без сопровождающего, с закрытыми глазами, в любом состоянии не ошибся бы адресом, куда ноги привели меня сами.
Старый мост через речушку на окраине поселка.
Я не стану сразу подниматься по откосу на узкий, в прошлом, деревянный, а ныне достаточно широкий бетонный настил, а постою внизу, не доходя с десяток шагов.
Надо перевести дух...
Мост еще издали, с уровня тропинки, ведущей вдоль берега, уверенно обозначился темным на светлом фоне серого неба силуэтом, сдвоенной линией пролета, а при подходе вынудил меня непроизвольно замедлить шаг... И сам подался навстречу - под обратным углом моего взгляда, исходившего из детства, из памятного рыбацкого бдения на берегу.
Я неожиданно ощутил в себе свой мальчишеский взгляд, прежний вид, затуманившуюся картинку...
Во мне, оказывается, постоянно жил забытый ракурс, отпечатанный в глазной сетчатке, в мозгу - и вот он самопроизвольно проявился.
Впаянный в сознание позитив за руку привел меня в заветное место, в искомую точку и задержал именно там, где надо было остановиться. Смотри! Вспоминай!
И я начинаю листать забытый блокнот...
Мост выглядит обновленным, но для меня он старый знакомый, открылся, будто потайная калитка, ведущая в заброшенный сад. Он призывно поманил к себе распахнутыми воротами "быков", стоящих, как прежде, непоколебимо и мертво, между которыми, как и сто лет назад, темнеет бездонная вода, а в детстве мы, свесившись с бревенчатого парапета, удочками ловили меж замшелых свай серебристых уклеек, плотичек и прочих мальков, снующих почти на поверхности.
На этом мосту влюблялись и расставались. С его высоты, казавшейся в мои годы ошеломительной, мальчишки прыгали "солдатиками" в воду, мужая за время падения.
Мост соединяет поселок с полями и огородами заречной поймы, с лугами и дальними пастбищами, и без него поселковая жизнь по-другому не представляется. Он всегда был таким же привычным, обязательным и вечным, как, скажем, церковь на взгорке в окружении старых мудрых сосен, чайная - бывшая старинная корчма и крашеная деревянная трибуна на площади, в одночасье разобранная...
В мою далекую нынче юность, вечерами, когда молодежи не было куда деться, а транзисторные приемники только входили в моду, на мосту затевались танцы. Мы, пацаны, толкаясь среди старших, передавали застенчивым ухажерам и ухажеркам тут же наспех составленными признательные записочки. Посыльные были нарасхват.
Однажды в сумеречной толчее я босиком проталкивался между танцующих на мосту парней и девчат, зажав в кулаке записку для Людочки Гримблат, переданную кем-то из старших ребят. Мои ноги мерзли от росы и холодной пыли, саднили, придавленные подошвами и каблучками, а я мучался любовью и ревностью одновременно, хотя дамой мальчишеского сердца считалась совсем не та, которой предназначалось чужое послание...
Та, о которой сегодня было столько помянуто и рассказано, в тот далекий вечер вместе с подружками, перегнувшись через перила, бросала в воду зеленые ветви с гроздьями белых цветов. Они медленно уплывали. Девчата-невесты не обращали на меня, малолетку, внимания... И Людочка Гримблат в их числе.
Я только сейчас догадался: от скомканной, так и не переданной мною записки пахло цветочным одеколоном...
Кажется, все здесь осталось, как прежде, как в прошлом... Но чего-то не хватает. Чего именно - я и сам пока не могу понять и сообразить...
Да! Конечно! Надо подняться по шатким ступенькам крутой лесенки вверх по откосу, взойти на парапет, опереться руками о перила и медленно повести взглядом по течению вдоль реки, туда, где протока начинает сужаться, заплывая под зеленую стену прибрежных зарослей. С моста, сверху, почти с середины русла открывается замечательный вид, ради которого, сам того не осознавая, я сюда и притащился - одетые черемуховым цветением, млечные берега...
Стога, груды, обвалы бушующего тумана, сползающего лавиной в притихшую воду и как бы воспаряющего над ней...
Чарующий дурман, витавший над рекой, почти не ощущался в поселке, а здесь, в сырой низине, в отстойниках кустов и деревьев терпкий запах черемухи висит почти осязаемой субстанцией.
Молочным огнем, белым пожаром пламенеют берега моего детства, и нет никаких сил без сожаления об ушедшем, без благодарных, скупых слез на все это глядеть...
Вечный огонь цветущей черемухи в Домачево... Не извести этот траурный пламень на берегах безымянной речушки ни людям, ни временам. Сколько раз он являлся ко мне во снах и вот опять подгадал к моему возвращению на родину в прохладный весенний день поминовения всех усопших. Наверняка он приходит ко всякому, однажды покинувшему эти места, - и зябнет, страдает и плачет в такие минуты у холодного огня чья-то одинокая душа...
... На кладбище, куда я впопыхах добрался, проворонив церковную службу, меня ожидал дядя Володя. Судя по его спокойному оценивающему взгляду, смотрелся я вполне сносно. Предбанник окончательно вытряхнул из организма хмельную дурь.
- Черемуха? Долго не простоит. Но все одно лучше бумажных цветов..., - сказал сосед, принимая белый букет.
Мы пошли навещать знакомые могилы. Эта значит - все подряд. Цветы разложили, насколько хватило веточек...
Моя малая родина.
Домачево.
Радоница.
© Александр Волкович
Источник: Русский переплёт
Если Вы располагаете информацией о Домачево или у Вас возникли вопросы, ждем ваших писем по адресу:
При использовании материалов с сайта ссылка на сайт обязательна
Разработка и дизайн сайта: © www.domachevo.com Прокопюк И. (2006-2020)


