Меню:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Сайт в соцсетях:
Герб Брестского района
(утверждён в 2001 г.)
Герб Брестской области
(утверждён в 2004 г.)
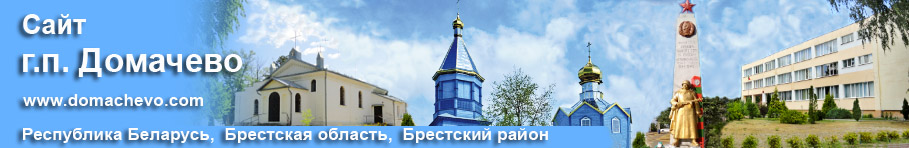
Александр Волкович
КРАСНАЯ ЛОШАДЬ
Повесть.
Легок на подъем – это, наверняка, обо мне: всегда без раздумий велся на любую авантюру, хотя вопрос спорный. Поди разберись. Столько предложений и перспектив, но чаще всего обещают чудеса в решете и безбожно врут.
Мать мне не раз говорила: «Ты, Саша, похож на отца».
На карточке – согласен. Но вся-то беда, на могильном снимке отец гораздо моложе меня, а каким бы он выглядел в мои теперешние годочки, неизвестно.
Недавно узнал от матери, почему-то вдруг вспомнила: отец бороновал поле, надоело - сушь, неурожай - лошадь бросил, пошел, куда глаза глядят. Подальше от голодухи, от свежей могилки братана Петьки, зарытого наспех на деревенском кладбище по названию Грязевец. Некому закапывать было – дед тоже отдал Богу душу. Упросили копать могилу немощного соседа.
Бабушка у людей спрашивал: «Мишку не видели? – Лошадь сама вернулась с перевернутой бороной. И как только ни за что не зацепилась?»
Письма беглец в родную деревню не писал. Зацеплюсь за жизнь – напишу, решил, наверное, но за его Красная Армия решила, и брошенную на поле борону комсомольский доброволец вспомнил уже на линии Маннергейма, на незнаменитой войне, которая никак без крестьянского хлопца обойтись не смогла.
Отморозил яйца - финскую «кукушку» высматривал, она, подлая, телефонный кабель подрезала и батькиных однополчан-связистов с заснеженной елки по одному щелкала, пока генерал Жуков на войну не приехал, бойцам непобедимой Рабоче-крестьянской Красной Армии тулупы и специальные меховые повязки для сугрева яиц не выдал.
После этого мой геройский папаня финского снайпера из новенького ППШ, тоже генералом Жуковым выданного, аккурат снял. Заодно и золотые часы, швейцарские, но командир часы забрал, а бойца представил к медали «За боевые заслуги».
Без трофейных часов с новенькой медалькой батяня вернулся в деревню на побывку, герой, а мать: где же ты, балбес, столько времени шлялся и почему лошадь без присмотра на поле оставил? Не жалко скотину?
- А чего жалеть? Знаешь, сколько лошадей в Карелии на финской войне перемерзло да перебито? На десять наших колхозов имени Третьего Интернационала хватило бы с лихвой и еще осталось бы.
- Герой – кверху дырой, - обозвала сыночка родная матушка и как бы не заметила дырку у него в плече. Свежая дырка. А что ему станется, герою-красноармейцу, вымахал в армии с добрую оглоблю, подумаешь, малюсенький осколочек! Не больше мизинца. Помниться, зубом бороны бок пропорол и ничего, загаилось, как на собаке. До свадьбы заживет.
Но лошадь старушка не забыла до самой своей смерти. Все грехи сыну простила, а лошадь – нет…
… И я тоже вспомнил. Невероятно, но факт. Очнулся во сне и затосковал, и бережно понес хрупкую мысль на кухню, и боялся стряхнуть догадку, рожденную ночным полубредом, полувиденьем.
Я, наверное, не совсем проснулся, - брел по цветущему полю и сбивал ногами золотистые одуванчики, и пушинки разлетались и улетучивались чьей-то не прощеной обидой…
Нес звеневшую голову осторожно, боясь споткнуться на ровном. Перед глазами маячила белобрысая «микитка» Толика - братика моего школьного дружка Мишки Миронюка.
Толик был таким же русоволосым, как и старший брат Митяня, мой одноклассник, которого мы дразнили лопоухим. Однажды, помню, школьный сторож и конюх Михаил Митрофанович заставил лоботряса и двоечника Мишку убирать голыми руками кучу дерьма, оставленного шалопаем на чердачной лестнице школы. Мишка плакал, но убирал. Митрофаныча боялись все – и учителя, и директор, и школьники. Он был – вы представить себе не можете – водителем единственной в поселке кобылы. Лошадь была старая, ленивая и подчинялась лишь Митрофанычу. Она забавно трясла седой гривой, подрагивала толстыми мягкими губами, и каждому из нас хотелось ее погладить. Трогать кобылу разрешалось не всем. Кому конюх позволял, считался в его глазах хорошим учеником.
Дядя Миша Алимкин, гроза двоечников и прогульщиков - наш Митрофаныч, чудом уцелевший защитник Брестской крепости, выполнял в поселке очень важную миссию - развозил свежий хлеб из поселковой пекарни в магазины. Далеко не все знали, что Митрофаныч когда-то был личным конюхом командира стрелкового полка крепостного гарнизона, и даже сам Сергей Смирнов, когда отыскал израненного Митрофаныча после войны в поселке Домачево под Брестом, повязал бывшему защитнику, бывшему партизану красный галстук, чтобы все мы, школьники, знали: дядя Миша – почетный пионер, защитник Цитадели. Кроме галстука, Смирнов ничего не смог ветерану предложить, даже не включил его в свою книгу про бессмертный гарнизон.
Про дядю Мишу запретили писать: он был в плену. Никто из детишек об этом не знал, не к лицу юным пионерам, поклонникам и последователям героя-пионера Павлика Морозова и героев войны, знать все ужасы и несправедливости военного времени. Ведь мы победили, и это считалось главным.
Дядя Миша в тот день, когда Смирнов уехал, сильно расстроился - надрал лопоухому Мишке Миронюку уши. И было за что: тот откромсал перочинным ножом прядь роскошной Машкиной гривы.
Спустя энное количество лет Мишке Миронюку отшибли мозги на зоне такие же пришибленные, как и он сам, несостоявшиеся пионеры и комсомольцы. Наверное, в отместку за изуродованную гриву школьной кобылы. Или еще за что-нибудь, а скорее всего, просто так: приспичило, как когда-то Мишке нагадить на школьной лестнице.
Мишка тоже не остался в долгу – в очередной раз «откинулся» и зарезал младшего брата. Может быть, и не хотел резать насмерть, ударил ради острастки кухонным ножом во время ссоры. Однако рука помнила работу, а мозги – ничего, кроме прострации – и лезвие кухонного ножа народного мстителя вошло прямо в сердце родного братика.
Мать обоих сыновей - зэка-рецидивиста и его брата, отца малолетних детишек, водителя школьного автобуса – вскоре скончалась: не выдержало сердце.
Одним ударом угрохал двоих.
А Мишка не отсидел даже половину назначенного срока, ведь началась перестройка - и зэкам в тюрьмах не стало хватать хлеба и работы.
Его тезка Михаил Митрофанович продолжал развозить свежий хлеб, но Мишке-убийце, вернувшемуся после зоны в поселок, отломить румяную корочку уже не предлагал. Вожжами, говорят, бывшего ученичка отстегал без свидетелей, но никто не видел, наверное, врут.
Кобыла Машка сдохла. Дядя Миша-защитник умер. Пекарню в поселке закрыли. Хлеб стали привозить из районного центра. Совсем не румяный и без корочек.
Дядю Мишу, покойника, я однажды встретил и даже о том о сем с ним поговорил.
Нет, вальты у меня не играют, с головой все в порядке. Зато у дяди Миши голова почему-то из лысой превратилась в лохматую, а если не верите, то можно сходить к главному мемориалу «Брестская крепость-герой» на Центральном острове цитадели и убедиться в моей правоте. Шевелюру монументу «Скорбящий воин» слепили внушительную. А лицом – вылитый дядя Миша Алимкин из поселка Домачево, только слезы текут по щекам, если идет дождь или тает снег. Хотя Митрофаныч плакать не умел, всем это известно.
Признали, наконец, геройского защитника, наверное.
Честно говоря, конюх и меня в детстве прижучил за порчу Машкиного хвоста, пришлось терпеть. Вынуждал дефицит - из конских волос детвора вязала рыбацкую леску.
Впрочем, удар хлыстом по голым икрам я даже не вспомнил, когда разглядывал дядин Мишин бюст на открытии мемориала.
- Почему вниз смотришь, дядя Миша? – спросил я бетонную голову.
- Да вот дорожки выкрасили красным, зря – затопчут, затрут…
- Как полы в школьном коридоре после ремонта?
- И как полы тоже. Вы ж, оглоеды, все равно зашаркаете…
Прав оказался Митрофаныч. Посетители мемориала скоро затоптали красный асфальт.
Один знатный гость заявил: де, алый цвет глаза режет, сосредоточиться мешает. Надо сереньким.
Что ж, выложили дорожки бетонной плиткой. Серенькой. Не такая маркая.
Все это я вспомнил и не знал, что с этим делать, но поверил жене и не стал заглядывать в сонник. Лошади – к вестям, покойники – к деньгам. Раскрывай шире рот и карман.
Тьфу-тьфу, хотел плюнуть чрез левое плечо, но с удивлением обнаружил свежую ссадину на том месте, где у покойного батяни кривился фронтовой шрам, испугался, знак, и болело, как, наверное, у бати, а жена посоветовала поменьше тереться в подъездах с соседом Юркой с 12-го этажа и погнала меня вкручивать в темном коридоре сгоревшую лампочку.
Проверила, горит – и укатила в деревню к тетке. Сказала на прощанье, раз у тебя уже галёники по ночам и кровавые мальчики навещают, то охолонь в одиночестве, авось, поумнеешь, трезвенник хренов…
- Не забудь домой вернуться, Пенелопа! – крикнул я ей вдогонку.
И заскучал.
Днем приходил странный мужик, похожий на цыгана. Кучерявый, в мотольском коротком полушубке кирпичного цвета (дохнуло овчиной), в хромачах. Скрип, скрип… - появился на пороге. Вроде бы знакомый, вроде бы раньше встречались. Кажется, дальний родственник жены. Уговаривал. Блажил. В глаза пристально глядел. Цепким взглядом шарил по углам, будто потными руками ощупывал одежду и тело, перебирал струны души, оценивая, примеряясь, словно лошадь на базаре выбирал. Словами обманными, вкрадчивыми обволакивал, соблазнял. А что надо – не говорил. Не нашлось силы незваного визитера спровадить, на дверь указать. Думалось: вот-вот раскроет карту, а там – баснословный выигрыш.
А он кружил вокруг да около, о спасении души и райском блаженстве балакал.
Не духовного звания человек и, кажется, не при службе.
Задурил голову, смутил.
Руки сами по себе потянулись за кошельком. Начал лихорадочно оставленные женой денежки пересчитывать – сколько дать, чтоб отстал?
Мужик через плечо в портмоне заглядывал, внушал:
- На благое дело, богоугодное… Не скупись…
Моими же пальцами искуситель выудил пару червонцев и за пазуху себе спрятал. Таким же манером голос моего сомнения придушил.
Очнулся - а гостя и след простыл. Две последних десятки исчезли вместе с ним. Что это было?
-Лабур!
- Кто, кто?- переспросил я соседа по площадке дядю Колю, которому о странном посетителе рассказал, умолчав, правда, про денежки, подаренные вымогателю. Боялся – засмеет.
- Лабур! – подтвердил сосед. – Людишки такие. Раньше они в Мотыле, Янове жили, а потом куда-то пропали. Старики помнят. Не то цыгане, не то молдаване. Или мадьяры, кажется…
«Кажется» меня не слишком устраивало, поэтому приступил к допросу с пристрастием: кто, откуда, почему.
Дядя Коля, к моему удивлению, мало что знал. Из путаного рассказа я понял: лабуры – старинное цыганское племя. Пришли в наши края из древней Валахии во времена Великого Княжества Литовского. В местечках и весях Полесья сохранилась молва: лабуры занимались сбором пожертвований на строительство новых храмов и, якобы, имели на то церковную грамоту и от католической церкви, и от православной, кто больше даст. Проныры, жулики, воры. Свою выгоду не упускали. А главное - обладали способностью внушения, сродни гипнозу: человек, общаясь с ними, терял волю, контроль над собой, впадал в транс - и требуемую сумму безропотно и добровольно выкладывал, что, собственно говоря, со мною и произошло.
«Да, уж…» - вспомнил я черные, гипнотические глаза странного посетителя и зябко поежился: брр… Попадись такому: оберет, как нитку. Матерый лошак. Не ровня бедным теткам в цветастых платках с сопливыми детками за руку, попрошайки, ходят по подъездам, звонят, липовые погорельцы.
Кто ж все-таки такой? И зачем летом в полушубке? Где цыганскую лошадь поставил?
На всякий случай выглянул в окно: не видать…
Дядя Коля, моя пьяная совесть, решил метафизическую задачку гениально.
- В любую эпоху, при любой власти жируют сборщики налогов и податей! – сказал он, как отрезал.
- А как же Некрасов? Кому на Руси жить хорошо? – попытался сумничать я. – По полочкам разложено, кто и как на народном горбу сидит… У нас в Беларуси разве по-другому?
- Некрасов был великим российским плакальщиком! Поэтому и скулил, извиняюсь, жалостливые стишата сочинял… А ты, к примеру, видел плачущим…
- Большевика? – съязвил я.
Дядя Коля уничижительно глянул на меня:
- Таможенника!
Ответ, достойный Цицерона. Наверняка дядя Коля имел в виду своего соседа по даче, таможенника-растригу. Дачу себе в пригороде отгрохал – ледовый дворец. Говорят, тыщ туда вбухано не меряно. И владельца не посадили, как в газете писали. Вот и не верь правилу - бывших чекистов не бывает.
Кроме всего прочего дядя Коля отличался изощренной сообразительностью, сродни депутату Государственной думы. Спорить с ним было бесполезно. А черты пламенного трибуна выражались в хроническом стихоплетстве, которым страдал, равно как и запойным пьянством.
Не верите? (Это я о дядиколиных стихах). Просю!
Ремарка: писал он на злобу дня, с присущим старшему поколению революционным пафосом:
«Вот повержен Самоса:
кровь из уха, из носа.
За народные муки,
наши хлопцы с базуки
крепко врезали суке!»
Или еще: «Мы пожарники-чекисты, мы всегда на працы, носим бляшку на ремне и топор на срацы».
Это о соседе-таможеннике.
Дядя Коля будто подслушал мысли о главном:
- В моем арсенале два чемодана стихов: один – эпических, второй – лирических. Какие предпочитаешь?
- Давай лирику! – согласился я, скрепя сердце. (Про суку Самосу и таможенника-чекиста я знал наизусть).
Классик закатил глаза и с придыханием продекламировал:
- Листья дуба падают с ясеня. Ох, ничего себе! Ох, ни фига себе!
- ???
- А? Получил? Считаешь: бездарь дядя Коля? Примитив? Агитки Бедного Демьяна от скудоумия крапает? Рано вы нас, стариков, со счетов списываете!
- Я, я…
- Я - головка от часов! Хоть маленькая, но ценная вещь! – уточнил потенциальный депутат.
Тирада настолько взволновала соседа, что ему, вероятно, приспичило, а до туалета терпения не хватило. Устремился к моечной раковине на кухне, расстегнул ширинку и стал шумно справлять малую нужду.
- Пусть лучше лопнет моя совесть, чем мочевой пузырь?
Слова отскакивали от дядиколиной непокобелимости, как горох от стенки, а точнее сказать, - как струйка мочи от фаянсовой мойки. Он разве только голову в сторону отвернул, чтобы не обрызгаться. Облегчившись, самокритично изрек:
- Года не те – струя не та!
- Знаете, в чем ваша ошибка? – продолжил дядя Коля неоконченный спор отцов и детей, хотя дискутировать я с ним не собирался. - В индивидуализме. Вы думаете солнце в небе и ночная Венера персонально для каждого? Фигушки. Солнце и звезды горят и без нас миллионы лет. А мы-то, наивные, мыслишку таим: ради меня, единственного и неповторимого! Коллективизм – вот корень проблем. Забыли главный принцип социализма – общественное выше личного!
… Коллективистская сущность дяди Коли сверлила меня колючими кабаньими глазками и плакатно вопрошала: «Ты записался добровольцем?»
Широкие тесемки подтяжек облегали выпуклое плотное брюхо, как ремни портупеи старого революционного образца.
- В газетах сообщали: Беларусь тракторы в Зимбабве отправила. Голодомор у них. Жалко макак, повымирают. А что поделать? Интернационализм – родной брат коллективизма! – продолжил культпросветбеседу писающий в моечную раковину интернационалист.
За его спиной, как я уже знал, в очередь выстроились дефицитные калийные удобрения, новенькие тракторы «Беларусы» и многотонные автомобили «БеЛАЗы», груженые под завязку аргументами социалистической интеграции – и такого дружного напора мой частнособственнический интеллект навряд ли бы выдержал, поэтому ретировался в свою опустевшую квартиру.
Говорят, одиночество отрезвляет. Правильно говорят, но недоговаривают – обостряет воображение и слух.
Топот и шарканье доносятся с верхних этажей, а кажется, гремит посудой моя благоверная. Наверху, похоже, топочет табун бельгийских лошадей.
Неужели оставшиеся без присмотра мужики в холостяцких квартирах затеяли неурочную уборку?
Одиночество, подгоняемое любопытством, решительно отворяет входную дверь и выводит меня на лестничную площадку.
На разрисованной лестнице узнал, кстати, о музыке и познакомился с бельгийским табуном.
Летучий эскадрон кантовал по ступенькам черное пианино.
Возглавлял схождение бывалый Юрка - старый знакомый с нелюбимого женой 12-го: семенил, сгорбившись, впереди, будто Максим Горький с гробом Ленина за плечами. Остальные из бригады-ух мотылялись по бокам и сзади, нащупывая ногами коварные ступеньки.
Рабсила в количестве семи человек, мобилизованных в нашем дворе не иначе как за обещание хорошей выпивки, стоически кряхтела. Никто из грузчиков – сразу видать - не поднимал в последние годы ничего, тяжелее стакана.
Ни веревок, ни досок-лаг у горносходителей не нащлось. Только руки – костлявые, трясущиеся конечности хронических алкашей и такие же ватные ноги.
Пришлось помочь советами. Причина не впрягаться уважительная – слаб здоровьем.
- Хлопцы, хлопцы! Ну, еще чуток! Поднатужься! – увещевал лысоватый наниматель (директор сельской школы, как выяснилось позже) после каждого вымученного пролета.
В лифт пианино не входило, как, впрочем, и гробы, которые в последние годы с завидной регулярностью все чаще и чаще начали спускать по лестницам черного, пожарного подъезда. Почившие в Бозе жильцы верхних этажей, прежде чем добраться на Страшный суд к Всевышнему вынуждены были по ступенькам опускаться на грешную землю, хотя изначально находились к небесам ближе других претендентов из нашей многоэтажки.
Собранная с бору по сосенке бригада быстро надорвала пупы, кувыркая тяжеленный дорогой инструмент на у-образных стыках лестничных маршей, стараясь по возможности не ободрать лакированные бока в катакомбах пролетов.
Пока досунулись до второго, предпоследнего этажа, намаялись на нет.
На очередном развороте квелые напарники окончательно дали слабину – и ведомого, коренного, приперло к стене.
Казалось, еще мгновение, и глаза вывалятся у него из орбит, и пианино расплющи в лепешку прижатого в углу человека. Как в анекдоте о музыке: два раза чирикнет – и подохнет…
- Ускоритель давай, не удержу! – прохрипел Юрка, синея от напряжения лицом, и без того синюшным от известного образа жизни.
Сочный рисунок мужских и женских гениталий на стене сигналил: парню вот-вот наступит полный …шизец.
Дабы не усугублять положение, соратники опасались груз кантовать, а лишь из последних сил удерживали от дальнейшего сползания по ступенькам. Казалось, еще чуть-чуть – и струны, натянутые внутри черного музыкального гроба, зазвенят в унисон с Юркиным сердечком, отчаянно трепыхавшимся в сдавленной петушиной груди.
Директор растерянно метался на площадке. Умоляющий взгляд несчастного человека, казалось, пронзил меня до пят. И тогда я скумекал, сообразил...
- Не двигаться! Держать до последнего! - скомандовал онемевшим архаровцам и скатился вниз. Метнулся в ближайший гастроном за углом. Отсутствовал, наверное, считанные секунды.
Полиэтиленовую пробку с бутылки срывал зубами, которые противно скребли стекло. Подал вино Юрке, безвылазно зажатому в угол…
Высвободив трясущуюся от напряжения руку, тот схватил протянутую емкость, вывернул шею и влил жидкость в судорожно раззявленный рот.
С каждым очередным глотком лицо Атланта розовело. С каждой «булькой» край пианино вздергивался чуток выше. Наконец маэстро воспрянул с колен, развернулся телом и сумел отжать от себя давящий груз. Невесть откуда взявшееся сила (известно, откуда!) приподняла инструмент и направила его по ходу движения.
С помощью напарников, перехвативших груз, музыка была «смайнована», спасена и установлена на промежуточной лестничной площадке.
Сделали передышку. Обессиленный, помятый Атлант присел на ступеньку и перевел дух. Держать небо на каменных руках было его древнегреческим собратьям, наверное, легче. Символическое предсказание коридорного граффити откладывалось на неопределенный срок.
- Ты что мне за гадость подсунул, Санька? Не мог получше выбрать? - подал голос Атлант.
- Марочное! Молдавское! Без очереди! – возмутился я от неслыханной наглости.
- Сладкое, зараза, - сплюнул Юрка и полез в карман за сигаретами.
Бригада дипломатично промолчала. Герой, пользуясь критической ситуацией, вылакал «полторашку» до дна. Остальные страждущие поглотали слюнки.
- Ну, чего расселись, слабаки? Давай! Цыгане шумною толпою толкали попой паровоз! – заторопил взбодрившийся Юрка загрустившую бригаду.
В скорбной тишине работа продолжилась.
.
Бригада из последних сил протаранила подъезд и затолкала пианино в кузов аккуратного голубенького ЗИЛа, стоявшего наготове. С облечением отправилась в беседку во дворе поднимать иссякшее «ух».
- Далеко везти?- поинтересовался я, чувствуя себя без вины виноватым.
- В Ивановский район… Бывали?
Приходилось.
Директору не до меня. Водитель вернулся из гастронома и уже торопит. Ожившее «ух» - замечаю краем глаза – посовещавшись, направляется к нанимателю за добавкой. Жена призывно машет мне из сельской глуши и манит глазами цвета запотевшей голубики. Промедление смерти подобно. – И я, как и был, налегке, втискиваюсь третьим в кабину: мне с вами, братцы, по пути…
Была не была. Не к теще же на блины, а заработать пару очков ради любимой женщины. Представляю ее распахнутые глаза: приехал?! Вот и славненько: будет, кому тащить тяжелые сумки!
Я отчаливаю совершенно спонтанно, назло дурным снам и нелепым семейным размолвкам. Подальше от навязчивых мыслей, всезнайки соседа и назойливых странных просителей.
Где-то там, в полесских краях, в домике, где гостил лишь однажды, рядом с ветвистой грушей-дичкой, на окраине деревушки из трех улиц на берегу безымянной речки находится моя ненаглядная, бросившая родного мужа наедине с кровавыми мальчиками и неподъемными пианино, застревающими на узких лестницах несуразных высотных домов. Она наверняка уже с утра пораньше отправилась с теткой по голубику и в эти минуты ползает на коленках в болотных кущах в тучах звенящей мошкары. Вернется в город, как ни в чем небывало, с опухшим от комариных укусов лицом, черными, несмываемыми, пальцами и белозубой улыбкой синих ягодных губ. С гордостью поставит на кухонный стол пятилитровое пластмассовое ведерко, повязанное сверху цветастым теткиным платком. Высыплет блестящую мокрую ягоду на расстеленную газету, – и мы обагрим руки красненьким, осторожно выбирая крупные ягоды и складывая в отдельную кучку раздавленные и мелкие, отделяя зерна – от плевел. Будем азартно отлавливать и выбрасывать в раскрытую форточку расползавшихся по столешнице суетливых букашек и шустрых муравьев. И вслед за беспокойными козявками улетучится недопонимание, отчужденность и обиды. Наша маленькая кухня наполнится терпкими запахами свежей листвы, хвои, сосновой смолы, духом папоротника, мха и еще чего-то лесного, забытого, давнего… и родного.
Осторожный «слимак» - лесная улитка поведает хрупкую мудрость крепости-дома. Дырявое сердечко листка крушины расскажет о прожорливой тле и коварных кислотных дождях.
Любовная сыпь изнанки завядшего папоротника вселит надежду и веру в забытый купальский цветок.
Многоточие свежих ягод в миске с магазинным молоком, кажется, никогда не закончится.
Лесная черника укрепляет желудки, утверждают медики. Отборная голубика, уверен на все сто – освежает голубизну глаз…
Я сворачиваю мимолетную картинку, как сворачивал мокрую, в красных разводах газету, облепленную мелкими зелеными листочками, и швыряю ее, дважды свое отработавшую, в мусорное ведро.
Дорога и только она развеет и отрезвит. Спасет от хандры. Успокоит и приободрит.
Вот уже миновали стелу с зубцами крепости и автомобильным колесом, пришпандоренным умником-архитектором на верхотуре бетонного знака. Интересно, видел ли когда-нибудь дорожный символ Бреста непризнанный защитник крепости дядя Миша из поселка Домачево? Надеюсь, нет…
Пока выбирались за город, старался вспомнить старушку с последнего этажа, хозяйку пианино. Мелодию надоевшей рапсодии припоминаю, ее – смутно. Осиротевший инструмент ненадолго задержался в квартире после смерти беспокойной «композиторши», как называли ее соседи… Не знаю, кто там живет сейчас и номер квартиры тоже не знаю. А на фига попу баян? Дом – четырнадцать этажей, общение поэтажное, площадочное, лифтовое. Знакомства визуальные, шапочные. Человейник. Каждый сам по себе. Людей много, а близости никакой. Совместножители. Или сожители? Есть в этих словах что-то нехорошее, постыдное.
Директор улыбается и вытирает несвежим платком вспотевший лоб. Попутчик не помеха, а в удовольствие, можно пооткровенничать.
Сельскому «викниксору» немногим за сорок, а его «Республика ШКИД» - с музыкальным уклоном. На беду, а, может, к счастью школа вместе с неперспективной деревней «уклонились» от районного центра и принципиального районо в глушь на десятки километров. В застойные времена, чего уж там застойные! – в недавние, перестроечные, руководителя давно бы уже привлекли за нецелевое использование бюджетных средств и искажение линии учебно-педагогической практики на селе. Неуправляемому директору восьмилетки вздумалось открыть музыкальную школу, а денег на это не выделено. Существует финансовая дисциплина и позиция отдела народного образования. А штаты? Музыкальные инструменты? Наличие одаренных детей в неполных классах? А обязательная учебная программа? Нецелесообразно отвлекать силы и средства. Нечем платить учителям и техничкам за совмещение. Нужны дрова для печей. Течет шиферная крыша. В классах по пять-шесть учеников. Выпускников – меньше, чем пальцев на одной руке. Установка на закрытие маломестных школ. Не до музыки. За свои кровные – пожалуйста. Ищите таланты. Ищите богатых шэфов. Щас! Колхоз ликвидировали. Трудоспособного населения кот наплакал. В местной, оставшейся, бригаде кроме пьяницы-бригадира - десяток полеводов-старух и два с половиной вполне еще бодрых партизана. Недостающая половина - на протезе. Где отыскать недостающее? В бывшей многолюдной деревне не наберется и полсотни жителей. Доживают. На свои колхозные пенсии старики подкармливают взрослых городских детей и их семьи. Кур и свиней держат. Коров почти извели: сено косить некому, пасти негде, мелиорация. Самый востребованный работник в деревне – дедушка Богдан. Кроме него, могилку выкопать некому. Мужик справный, нет восьмидесяти.
Но ребятишкам позарез нужно пианино, они не вырастут полноценными без рапсодий.
Всю эту партитуру, включая выразительное сольфеджио «пошли бы все умники на хутор бабочек ловить», директор вываливает в один присест, пока мы движемся по скоростному шоссе «олимпийской» трассы
Достает из бардачка газетный сверток.
- Помидоры с салом будешь?
- Буду. А соль есть?
- Так ведь сало!
Вполне очевидное сельскому интеллигенту, невдомек городскому.
Ладно, у меня припрятан козырь. Вопрос на засыпку. А пока, суть да дело, перекусим, чем колхоз послал.
Директор на слове меня не ловит. Ему давно надоели пустые разговоры. Во рту с утра маковой росинки не было. Зато есть пианино. Куплено недорого с рук. Старенькое, бэу, но звучит приятно, правда, немного расстроено. И день удачный, ясный, без дождя.
Водитель – тоже свой, из райсельхозхимии, вчерашний школьный выпускник. Добродушный увалень, пофигист. Одной рукой в носу резьбу нарезает, другой рулит. Заправь – и хоть в столицу по олимпийке.
Свернули с магистрального шоссе. Мне - до поворота в теткину вотчину. Где сходить, скажут. Ковалэк дроги, как говорят поляки. Можно подремать, если охота.
Директор извлекает из-за сидушки большую бутыль молока. Посудина, как в кинофильмах – литра на два, широкая внизу, с длинным узким горлышком. В таких бутлях самогон хранят. Предлагает мне. Мол, от своей коровы, для внуков буренку содержит.
От молока отказываюсь. Отвык от домашнего. Вдруг проберет. Мы, горожане, вскормлены пастеризованным или от бешеной коровки. Последнее предпочтительней.
Где-то читал: японцы вычислили, будто коровье молоко людям за тридцать – без пользы и даже во вред. Пища младенцев вызывает у некоторых взрослых несварение и вырабатывает нежелательные гормоны. Кефир, сметана – да. Значит, у школьного директора с детским восприятием все в порядке. Организм жизнью не испорчен.
Водитель тоже парень что надо. Засосал почти треть бутылки с «горла» одним махом. Лыбу давит.
Молочные капельки остались на подбородке.
Белесая струйка скатилась за воротник.
Не к месту вспомнил: материнское молоко нельзя выливать. У моей Пенелопы – имя в девичестве библейской великомученицы Ирины – молока было море. Молочной молодая мама оказалась, даже с избытком. Бывало сцеживала из набухшей груди в поллитровую баночку и все переживала: гляди, ненароком не вылей… Нельзя. Большой грех и – дурная примета. Заставила относить излишки на детскую молочную кухню. Брали с радостью. Еще и благодарили. Видать, новорожденным не хватало.
Худосочные современные мамы пошли – грудью младенцев не кормят, курят, пьют; «колеса» на дискотеках глотают, козы драные…
Надеюсь, существуют рецепты. Их знает директор маленькой сельской школы. Известны они его повзрослевшим ученикам. Люди делают свое дело, не слишком утруждаясь сомнениями, зачем это надо. Весомый аргумент в их пользу, укутанный куском выцветшего брезента, молчит до поры до времени в кузове урчащего добродушным котом, ухоженного «зилка», такого же надежного и безотказного, как и крепыш-шофер.
Пора и мне выяснить свое. Лабуры. Кто такие и кто такой? Явился, не запылился мужик, обвел вокруг пальца, обобрал. Неизвестный родственничек, землячок гребаный…
Отдохнувший, перекусивший чем колхоз послал директор, спокойно, без удивления выслушал, как мне казалось, заковыристый вопрос. Читал он про моих лабуров или лабарей. Любите книгу – источник знаний! Специально в областную библиотеку ездил. Делал выписки ученикам. По темам истории родного края. Называется книга «Живописная Россия», раздел о Полесье. Знаменитый Семенов-Тяньшанский издание редактировал. Солидная работа, исследования 19 века.
Оказывается, цыганских барышников, мнимых и настоящих церковных эмиссаров на забытом Богом Полесье давно уже вычислили, расписали, разбили на главки, пронумеровали и даже словарь тайного лабурского языка составили.
Выражений и слов из лабурской речи учитель не запомнил, без надобности, но знает, проверял: похоже на язык современных цыган. Те этот факт подтверждают. И самое интересное – потомки лабуров в некоторых полесских районах до сих пор живут, кое-что из словарного запаса предков сохранили. Можно найти этих людей и познакомиться.
Водитель счел долгом свои пять копеек вставить. Мол, зачем далеко искать – до первого гаишника. Изобразил в лицах: «Сэржант дорожной инспэкцыи Петрэнко. Трое детей… Ваши документи!»
Посмеялись шутке, зауважал попутчиков еще больше. Отдал должное соседу дяде Коле: подкован, прости меня господи, о лабурах тоже слыхивал. Всегда прав. Одна закавыка: правота его поперек горла становится, стоеросовая, прямолинейная, как оглобля…
Легкая на подъем полосатая палочка в руках упитанного сержанта взмахом с обочины тормозит беззаботный «зилок». Стоп, сельская химия! Не поминай всуе! Не свисти – накликаешь ветер.
Милиционер в гаишных доспехах похож на байкера только без бороды. Появился на дороге, как черт из ладанки.
Мельком просмотрел водительские документы, путевку, груз в кузове и сразу потерял к задержанным интерес. Что с нас взять, кроме анализа? Точно: фамилия его не Петренко. Петренко дал бы посмотреть в неисправную трубу: превысил? убедился? Плати, уважаемый. Обязательно по имени отчеству бы назвал, как значится в правах. Денежку бы, нехотя, взял. И остался бы дальше в засаде пополнять гаишный бюджет, а попутно свой карман.
Все мы трое, сидящие в кабине, почувствовали облегчение: все с нами осталось, остались небольшие деньги в кошельках, настроение, чувство цели, и еще узнавание дороги, по крайней мере – для меня. Водитель ничего не нарушал, но неприятное могло случиться – и от не случившегося казалось чуточку легче.
Я уже проезжал этой трассой, наверное. Дороги похожи. Наши районные проселки близнецы-братья. Обязательно - терпимый асфальт, сносная, а местами, новенькая разметка, дорожные указатели с привычными названиями «черняны», «залесье», «вулька», «заболотье», такие отыщутся в любом уголке Беларуси. Залатанные свежим гудроном скоростные участки и выщербленные колесами скучные перегоны с пятнами коровьих блинов на проселочных перекрестках.
Обязательно – сжато, скошено, вспахано, забуртовано и заскирдовано вдоль главной дороги в окрестностях крупного населенного пункта, центральной усадьбы, и недоделано или вовсе нетронуто там, где кончается асфальт и начальство заглядывает реже. Незамысловатая стратегия местных хозяйственников, председателей и бригадиров.
«Зилок», наконец, тормознулся на развилке асфальта и проселка, мне надо сходить, поворот на теткино Завершье - жалко, привык, обжился в кабине, но делать нечего. Спрыгнул на пыльную обочину.
Пока дошкандыбал под звон кузнечиков до деревенской околицы, умаялся. Безлюдная улица мягко стелила травой муравой и листьями подорожника, но жестко - дырявыми заборами и нежилыми дворами. Теткин дом нашел почти безошибочно: как же, однажды гостил.
Вдовий двор узнаваем сразу: бабской рукой приколочено, сложено, покрашено и женской же чистенько подметено. Поленница наполовину выбрана. Ржавый топор с расщепленным топорищем валяется рядом с почерневшей колодой. Кособокая детская коляска, приспособленная под тачку, загружена дровами, но никак не отчалит. Пяток тощих кур в загородке роется в сухом песке. У косого порожка – резиновые боты с обрезанными «халявами».
Хозяйку не видать. Моей тоже.
Эх, я ли деревенским, я ль крестьянским не был! Где у вас инструмент припрятан?
Ржавая стамесочка, засунутая в щель, попалась на глаза. Расколотая оконная шибка в крапиве слеповато блеснула.
Подходящую половинку березового поленца я быстренько присмотрел, обтесал, взамен старого топорища приспособил. Клинышек в торец вогнал, укрепил. Стамеской, затем стеклышком деревяху поскоблил. Казалось бы, полчаса провозился, а глянул на часы: уже за полдень перевалило. Топорище получилось на славу, ладони удобно, топор – остер. Да и не нужна средней тяжести колуну бритвенная острота. Главное – надежность, прочность. Остальное точный удар, масса обуха и сноровка доделают, а их-то у вдовушки наверняка не хватает, но зато я кстати – быстренько распиленные поленья расколол, поленницу доложил. Метил сердечные завитушки древесных колец на раз. Еще поработать охота, но уже калитка скрепит, ягодницы из леса возвращаются.
- Привет, мой свет! Не ждали?
- А я знала, что ты притащишься следом!- охладила встречный энтузиазм жена. И к тетушке:
- Чем бы нам его еще нагрузить?
Грузите, мои дорогие, как доброго коня: потащим!
На лице у Пенелопы важность и горделивая ухмылочка сквозь красноту первого загара так и прут: а мой-то еще ничего! Мужик!
Тетушка за обоих рада. Ей наблюдать, как родные собачатся – по сердцу серпом.
Кстати, а где у хозяйки серп, а лучше коса? На задворках все бурьяном позарастало…
Женщины уселись рядышком на бревне и наблюдают, как зятек с непривычной косой управляется. Ишь, оселком лезвие пошваркал, как полагается… Косовье правильно держит, не мельтешит… На пяточку, на пяточку ставь, носом не зароешься… Глядь, и вправду, умеет, хоть коса и не клепана!
Я-то в своей жизни раз третий, а может, пятый по-настоящему траву косил, поэтому особо не расстраивался. Ведь не в покосе на лугу в шеренге ушлых работничков-мужичков, что норовят пятки подрезать, а ради баловства бурьян в огороде посбивать… Безруким надо быть, чтобы не справиться!
Женщинам свое: не умение, а участие, не рекорды, а сочувствие душу греет. А что более любо безрадостной бабской долюшке, взвалившей на свои не богатырские плечи работу непосильную, мужскую? В лесу натопались, ягоднику накланялись. Можно передохнуть, коль подвернулся ретивый помощничек.
Слово за слово, взмах за взмахом - разговор продолжился, двор очистился. Попутно обмусолены последние деревенские новости. Главные: Завершье в границы вновь организованного агрогородка не вошло. Это значит, новых, президентских домиков здесь строить не будут. Ферму закрыли. Соседка баба Маня по прозвищу Кочиха померла. Хата заколочена, вон она через забор. Витька, сынок, - Ирины брат двоюродный - обещался приехать с детьми в отпуск …
Между тем моя молодой картошечки успела накопать, у колодца помыла, кастрюльку на плиту поставила. Знать, будет шкварка, и, надеюсь, чарка, о которой наш президент любить повторять. А без них наша жизнь – заводская столовка. И не только в деревне, но и в городе, - везде первейшее дело бульбы наварить, натолочь, жиром со шкварками толчонку приправить. Можно и целехонькую, быстрее будет. Картошка – в подвале или в ямке, сало – в бочонке или в деревянном ящике в каморе. Подрастающие запасы в хлеву хрюкают, на картофельных бороздах кустятся.
Помню, мне попалась старинная книженция с кулинарными рецептами: «Если вы затрудняетесь, какое блюдо приготовить по-быстрому, то спуститесь в подвал и отрежьте кусок копченого окорока… Почистите его, порежьте тонкими ломтями…»
Каково? Как будто аппетитные окорока и прочий съестной запас в каждом дореволюционном доме имелись в немереном количестве. Стояли терема – в подвалах закрома. А? Все врут календари?
Даже куры в загоне моим сомнениям удивились, раскудахтались: во, дурень! Ведь проще пареной репы: летом потопаешь, зимой полопаешь! Народный календарь на века определил смысл человеческой жизни на земле: в поте лица добывай хлеб свой насущный…
Нет, не зря я приехал. Еще по дороге от шоссе горячая пыль через голые пятки – додумался, разулся - душу согревать начала, и оказавшись голенькой она с готовностью откликнулась на сельские виды-краевиды, на запущенный двор, на нехитрую работенку, которую мужским рукам, тьфу, пустяк, плюнуть, не в тягость, хотя вроде бы не под то городские руки заточены, и глаз не ватерпас, но, гляди-ка, есть еще порох в пороховницах, рукой родительской в ружьишко заложенный, жаканом заряженный и пыжом запечатанный. Нажми на курок самолюбия и совестливости – враз выстрелит.
Не скрою, были сомнения: дескать, и сноровка не та, и порох сыроват, и дробь мелковата, и ружьишко не пристреляно. Работа в охотку – знать, охотничек. Добытчик. А иначе, какой из мужика прок?
Меня чуть было от гордости не расперло, но, как всегда, Пенелопа начеку оказалась, унасекомить не унасекомила, а бровью сердито повела, плечиком капризно вздернула. Мол, что это у вас, дорогой муженек, глазки заблестели и щеки залоснились? Если, - говорит – вы за свой пустячный труд на теткино угощение рассчитываете, то губёнку можете не раскатывать, так как свою цистерну давно уже опустошили, а оставшийся резервный бочоночек давно прохудился и иссяк. От чрезмерного, значит, употребления. А коль уж очень невтерпеж, то я вам тесемочки к губам бесстыжим пришью и на узелок дырявый ротик завяжу…
Тетка Вера вскинулась было на защиту незаслуженно обиженного ударника, однако… Словом, получил я под дых, но виду не показал.
Вера и не в таких передрягах с покойным муженьком участвовала, опыт кухонной дипломатии у нее имелся богатый, и я без лишних слов понял тонкий намек на толстые обстоятельства. Чуть позже, как моя Ирина утихомирилась и революционную бдительность ослабила, мимоходом завернул за дровяной сарайчик, куда добросердечная тетушка кивком указала, и все оказалось в полном ажуре.
Бутылочку за колодой нащупал. Стаканчик нацедил, опрокинул, кусманчиком сала с черным хлебцем зажевал. И стало мне хорошо-прехорошо, аж в одном месте зачесалось. Художника легко обидеть, а как утешиться, он всегда найдет и отыщет, пока существуют такие понятливые тетушки, дай им Бог здоровьица и долгих лет жизни!
Пенелопа, конечно, вскоре каверзу распознала, на тетушку сердито зыркнула, а та знать ничего не знает и не догадывается, где ж зятек успел добежать, наверное, когда в магазин за сигаретами отлучался…
Делать нечего, гнев сменился на милость. Тетка песню затянула, племянница поддержала. Хорошо у них дуэтом получилось. Я еще удивился: откуда моей Пенелопе слова известны? «Тэчэ рэчэнька невеличэнька», «Ой, у поли при дорози», «Как на горке цыгане стояли»…
А там и вечер накатился, и такой закат-закатище на нас обрушился, что все вздорные недомолвки и раздражения в пылающем омуте утонули. Никогда мы в городе ничего похожего не видывали. Я сразу даже не понял, откуда огонь…
Симфония безудержного пламени.
Все вокруг преобразилось.
Красные штакетины. Красные кувшины вверх дном на кольях. Красная косынка на теткиной голове. Красная поленница и красные куры в песке. Красные деревья и фиолетовая картофельная ботва.
Поляна распустившихся одуванчиков за огородом колышется алыми головками.
Сосновые бревна сарая и рубленые стены старенькой хаты тлеют раскаленными головешками.
Горит огнем фанерная дедова звездочка, приколоченная в торце покосившейся избы.
- На, кусни сердечко! – улыбаясь, протягивает мне жена бордовое яблоко-паданку, и я недоумеваю, как оно, пару часов назад зеленое и твердое, успело созреть и покраснеть…
Из-за сарая выкатывается что-то большое, гривастое, со спутанными передними ногами. Это соседская лошадь. Она ничейная не только по причине старости: местный колхоз ее давно списал и передал желающим в поочередное пользование с условием кормежки.
В густых лучах заходящего солнца лошадь бордового цвета. Щиплет бордовую траву-мураву и пухлыми мягкими губами осторожно берет с моей ладони горбушку ржаного хлеба, такую же терракотовую, как растительность во дворе.
Мне показалось: даже вода в ведре, из которого чуть позже поили у колодца кобылку, отсвечивала красным…
Разве такое бывает?!
Колодезный журавль, наклонившись в очередной раз, зачерпнул ведерко угасающего янтарного солнца, - и закатное пламя в колодце и в небе на грамульку иссякло.
Пылающий солнечный шар, наконец, прожег прореху в том месте, куда пытался скатиться, и канул в прорву темного леса.
Скамейка, на которой мы сидим все втроем спинами к забору, теплая. Идти в дом неохота. Дощатая входная дверь, устав приглашать, разобиделась на невнимание и стала темно-голубой. Такого же цвета давно некрашеные рамы в окнах и пятиконечная дедова слава.
Бардовая лошадь, остывая шерстью, взбрыкивая, ускакала из виду вслед закату. Поманил росный луг за огородами.
Наступил тот исключительно задушевный момент откровений, когда угасающий день просит у ночи прощение за недоделанное, а люди - за обоюдные обиды.
Созревают мысли, материализуются догадки.
Тепло, взятое взаймы, должники без сопротивления возвращают дарителям, оставляя необходимую толику себе.
Парит вареная картошка в кастрюльке.
Глиняный горшок, незаметно для городских гостей перекочевавший с забора на кухонную клеенку, и неизвестно когда наполнившись простоквашей, манит крутым боком и желтой каемкой загустевшей сметаны.
Слова разговора за ужином - убористые, аккуратные, как и горячие картофелины, похожие на рябые перепелиные яйца, посыпанные мелко посеченным укропом.
- Ешьте, ешьте, мои дорогие…
- Теть, а сорт бульбы какой? Темп?
- Ласунок… Темп давно вышел из моды. Никто из деревенских нынче его не признает…
- Почему?
- Выдохся: раком болеет, фитофторой… Горячо, тебе Санька? Кислым молоком запивайте. Чаев-кофиев не ждите, не готовлю.
- Хороша простоквашка!
- Тебе полезно…
- Я бы молочка от бешеной коровки попить не отказался…
- Может, хватит паясничать?
- Какой вопрос, такой ответ!
- Добавочки? Съедайте все. Утром «крышаны» сготовлю –картофельного супчика…
Пенелопа с явным удовлетворением наблюдает, как я допиваю сырое куриное яйцо. Выражение лица, будто сама снесла. Благо, хоть гоголь-моголь не предлагает взамен вечерней чарки. Как раз. Угадала! Мы с тетушкой и без сопливых разобрались, изволь, ненаглядная, заценить мой довольный «ирокез»… И сыт, и слегка пьян – по мне незаметно, и нос табачком пудрить выхожу на крыльцо. Пусть наедине пошушукаются. Тетка, уверен, тертый калач, не сдаст.
Что еще человеку в земной жизни надобно? Немного теплого и красного к серой повседневности – и счастья полные штаны.
Половики в теткиной хате – полосатые, домотканые: белое с красным. В доме ходят босиком, а обувь оставляют летом – у порожка, зимой – в сенцах.
Вокруг и у нас внутри все цвета прошедшего дня, казалось бы, нашли оптимальное сочетание – каждое выпячивается в меру.
Тетушка, поддавшись общему благодушному настроению, рассказывает о своей жизни. Она – бывшая колхозная доярка, нынче на пенсии. Мужа схоронила. Муж Веры – колхозный механизатор, погиб по халатности напарника. Единственный сын давно выучился на агронома и живет с семьей в другом районе. Изредка навещает.
Судьба деревенской красавицы схожа с окружающими предметами и выверена мудростью сельского быта. До поры жбан воду носит. Чистый пол быстро затаптывается. Жасмин чаще ломать – лучше цвет. Если бабе сорок пять – баба ягодка опять.
С какой стороны ни подступись - получается правильно.
Вера внешне похожа на крутобокий глиняный кувшин: такие деревенские мастера лепили на гончарных кругах и продавали на сельских ярмарках. Племянница, как и родная тетка, смуглолица, пышнотела, грудаста. Только меньших размеров. А упертым в бок кулачком – точь-в-точь рассерженный горшок. Ставь рядом – не перепутаешь.
На увеличенной фотокарточке в рамке на стене тетушкины родители и она сама - простые строгие лица. Приглядевшись, почти на каждом снимке – а их несколько десятков различных форматов – можно узнать мою Пенелопу разного возраста и обличья.
- Эта? Нет, воде бы не похожа… Наверняка, которая сбоку…
Тетка смеется:
- Нету здесь нашей Иришки. Сестры двоюродные, я с ее мамкой, бабушка в юности, племяшки…
Оригинал ничего не имеет против. Брови и губы – от тетки и матери. Овалом лица – на покойную бабушку смахивает. Характером…. Чур, капризный горшок не трогать! Вещь в хозяйстве полезная….
Ладно. Замнем для ясности…
Под завязку заявился дед Иван, дальний родственник.
- Кобыла у вас? Мне утречком за сеном…
- Лошадь за огородами. Если цыгане не увели.
- Какие к лешему цыгане? Нынче своих жульманов хватает.
К столу дед Иван присаживаться не стал. Удалился с хозяйкой искать в хлеву хомут и конскую сбрую.
Ирина прибирала посуду самостоятельно.
Засыпаем в дальней комнате на широком топчане, приготовленном для приезжих: подушки огромные, пуховые. Одеяло – тоненькое шерстяное покрывало, «капа». Надо отдавать тепло, поглощенное за световой день. Не жалко. Зато ни гудящего лифта за бревенчатой стенкой, ни скачек бельгийских лошадок над головой.
Растиражированные близкие и дальние родственнички – живые и мертвые - неусыпно бдят с любительских фотографий, охраняя сон и покой наследников.
Почти всю ночь напролет во дворе - было хорошо слышно - топала ничейная бордовая кобыла, а на шиферную крышу хаты со стуком падали не в срок созревшие яблоки, подточенные изнутри плодожоркой.
Так продолжалось до тех пор, пока рапсодия ночного дождя не поглотила случайные звуки, наполнив округу и грешные души спящих долгожданным умиротворением.
… - Ну и чего примчался за мной в деревню? – с места в карьер завелась супруга после того, как мы вернулись на попутной машине в городскую квартиру. Привезли с собой полнехонькое ведро отборной голубики, чудесным образом очищенной за время безмятежной ночевки в деревне. – Ничего толком не помог. Выпивку выдурил. Ягоды и те тетка перебрала. Толку с тебя, дорогой, как с козла молока!
Загибаю пальцы, отчаянно хрустя костяшками аргументов:
- Дров наколол – раз! Траву во дворе подкосил – два! Тяжеленное ведро нес – три! Мало?
Пенелопа уничижительно хмыкает: мол, хорошо хоть не надорвался…
«А лошадь?! Зря, что ли, она была?» – хочу выкрикнуть последний довод, впрочем, нисколько не надеясь пронять им свою железную леди…
«Дурачок ты, муж… И не лечишься….» - красноречиво начертано на ее лице.
Лопух я, лопух. Все-то она понимает, все видит и чувствует прозорливым бабским сердечком.
Семейная идиллия продолжается несколько дней. Пенелопа – вежливость и предупредительность. Я весь из себя – услужливый кавалер. Сосед дядя Коля не заходит и жизни не учит. Юрка с 12-го этажа тоже куда-то пропал. «Композиторши» не слыхать, и навряд ли в обозримом будущем кто-то музыкантшу заменит.
Кровавые мальчики мне больше не снятся и не тревожат. Незваные гости в дверь не звонят.
Я брожу по комнатам с ощущением приличного загара на лице и на теле и лишний раз к зеркалу стараюсь не подходить, чтобы не разувериться. Загар липнет ко мне не очень. Пигментация не та.
На четвертый или, кажется, пятый день, прошедший после деревенской поездки, раздается телефонный звонок. Трубку подняла Ирина.
Пигментация ее лица сработала мгновенно: побледнела буквально на глазах.
- Что-то случилось? С теткой? Заболела? Несчастье? – спрашиваю, и боюсь получить утвердительный ответ или хотя бы кивок.
Сборы стремительные – и она уже стучит каблучками по коридору. С места в карьер срывается кабина лифта. А я возвращаюсь в опустевшую, ставшую гулкой квартиру, и пытаюсь осмыслить произошедшее…
Слава Богу, с теткой Верой все не так страшно. До сих пор в ушах ее искаженный мембраной приглушенный голос, впитанный моей щекой, прижатой к щеке жены.
Ирина сжимала трубку побелевшими пальцами и не отпускала до тех пор, пока я силой их не разжал и не прервал хлопком настойчивые сигналы отбоя.
Бессмысленно гляжу во двор, приткнувшись носом к оконному стеклу. Кажется, внизу маячит белобрысая макушка соседа Юрки. Юрка задирает вверх лицо и шарит взглядом по окнам. Машу ему через форточку: зайди…
Трудно сказать, кому повезло больше. Мне крайне необходим благодарный слушатель, чтобы выплеснуть эмоции; соседу, наоборот, чтобы кто-нибудь сжалился и плеснул грамульку во спасение. У обоих из нас состояние бедовое, близкое к срыву.
Марочный коньяк из бара вносит в ситуацию успокоение. Спасенный, блаженно прижмурившись, цедит из хрустального бокала пятизвездочный эликсир жизни, а я, проглотив свою порцию, торопливо рассказываю…
Да и что, собственно говоря, успел узнать из путаных слов жены и тетки?! Определенно – одно: какие-то уроды подкараулили и увели якобы ничейную людскую лошадь деревни Завершье. И не просто увели, а убили. Разрубили тушу на части и увезли на грузовике в неизвестном направлении. Расправа происходила в кустах за рекой: рыбаки нашли отрубленную голову и копыта. Кишки, потроха еще не успели провонять. Трава, листья были заляпаны подсохшей свежей кровью…
По эстафете тягловая сила принадлежала в тот момент тетке Вере, и вся ответственность за животное лежала на ней. Но разве лишь в том дело?! Кобыла и раньше пропадала ненадолго, однако, как правило, легко и быстро отыскивалась по над речкой за огородами, где паслась, спутанная для порядка. Она без понуканий шла к людям, без принуждений по многолетней привычке позволяла даже детишкам запрягать себя в телегу и в плуг, честно отрабатывала корм на пахоте, сенокосе, на подвозе, не особо рассчитывая на внимательный уход и ласку.
У тетки сердечный приступ или состояние, близкое к предынфарктному, поэтому Ирина помчалась на помощь, а попутно выгребла из домашней аптечки и взяла с собой подходящие лекарства - пустырник, настойку валерьяны, таблетки валидола…
Я пью с Юркой во спасение и переживаю.
Юрка не понарошку сочувствует и строит догадки. Я ему все рассказал: и про тетку, и нашу последнюю поездку в деревню, и про вечернюю кобылу…
Сосед вспоминает, как пару лет тому назад подрабатывал на мясокомбинате. Однажды наблюдал такую картину: цыганский барон сдавал на убой старую лошадь. Хозяин лошади приехал на ней верхом, своим ходом, иномарку барона гнали помощники сзади.
Цыган собственноручно расчесал гриву коня, надраил шелковым шарфом копыта. Лошадь была вычищена до блеска, и плакала вместе с хозяином, целовавшим четвероногого друга в губы на прощанье. Уздечку барон унес с собой.
Мастера и подсобники убойного цеха долго не могли опустошить выставленный цыганским бароном магарыч… Понапивались работяги вдрызг. И Юрке перепало.
- Наверняка вашу конягу не настоящие цыгане убили, поддельные, цыган коня никогда не обидит, хороший человек - тоже… – убеждает меня захмелевший сосед, стараясь утешить. – Как ты называл? Лабуры? Они и есть. И не цыгане это вовсе, просто – лабуры, никчемные людишки. Я похожих прохиндеев не раз встречал и за версту чую: обманут, облапошат и еще виноватым выставят. Живучие, как тараканы. В любом коллективе такие найдутся… Помнишь у Высоцкого? «И ни церковь, ни кабак - ничего не свято…»
Рассказанное Юркой не кажется мне бредом сивой кобылы – я ему верю. Как всегда верил школьному конюху, непризнанному герою дяде Мише, и своим родителям, как поверил недавним попутчикам - сельскому учителю с его драгоценным пианино, поющим рапсодии в сельской глуши, доброй тетушке из забытой деревни – и бордовой лошади, возникшей из вечернего заката.
Вам случалось видеть красную лошадь? Если нет, то не отчаивайтесь. Когда-нибудь, - если, конечно, вы еще не безнадежно душевный дальтоник - солнечная лошадка цвета вылежавшего зимнего яблока пепин шафран, обязательно появится на горизонте и коснется протянутой руки теплыми мягкими губами. В таком случае можно считать, что вам крупно повезло. На всю оставшуюся жизнь.
Мы пьем с Юркой «звездатый» коньяк, серьезно обсуждая и произнося тосты.
За здоровье присутствующих и за тех, кто не с нами. За мир во всем мире. За то, чтоб жилось, елось, пилось …и так далее.
«Оглоблевую» чарку - за красную лошадь…
- Бисмарк-фуриозо!– уточнил окрас лошади всезнающая сосед дядя Коля, с которым я позже имел неосторожность поделиться событиями последних дней.
- Что-что?
- Коричневая с красным отливом, майн либе фройнд! – снисходительно просветил он, чавкая яблоком.
И где только вычитал, блин горелый?!
Отставной политработник пытался еще что-то втюрить про огромный айсберг, отколупнувшийся от ледников Гренландии и гонимый океанским течением к берегам Австралии, грозя миру небывалым наводнением…
Но все равно настроение мне несгибаемый эрудит испортить не сумел. Что стоит, даже самый огромный айсберг по сравнению с красной лошадью?!
А ночью мне приснился лошадиный табун. Он скакал на меня, оголтелый, решительный, страшный - в беспросветной тьме, в оглушающем мраке. Развевались косматые гривы, мелькали копыта. Пена кровавыми клочьями слетала с оскаленных конских морд и свисала сосульками с потных блестящих боков. Некоторые лошади были под седлами. Без седоков.
О, чудо! Я их сразу узнал. Худую отцовскую клячу – она волочила за собой перевернутую борону и спотыкалась на всех четырех немощных ногах.
Заморенную беднягу окружали заиндевевшие от инея, заледеневшие военные лошади с короткими подстриженными хвостами, с белыми, незрячими глазами, вывалившимися из орбит, как у замерзших рыб, выброшенных на лед. От них не шел пар, ледяные лошади не ржали и не храпели, они скакали беззвучно и мертвые. А у многих волочились на поводу орудийные лафеты и груженые повозки.
Дяди Миши – непризнанного защитника Брестской крепости гражданская лошадка привиделась, Машка, с роскошной серебряной гривой. Как ни кромсали её и ни укорачивали школьные шалопаи, вроде меня, а она выросла до удивительной красоты и размеров, и наша тихоня, неуклюжая и мохноногая лошадка, выглядела, будто сказочный чудо-конь из детских красивых книжек или анимационных мультяшек.
И – тоже увидел яснее ясного – бордовую кобылу из вечерней полесской деревни – живую и здоровую, собранную из разрубленных частей, только с головой, повернутой назад…
© Александр Волкович
Если Вы располагаете информацией о Домачево или у Вас возникли вопросы, ждем ваших писем по адресу:
При использовании материалов с сайта ссылка на сайт обязательна
Разработка и дизайн сайта: © www.domachevo.com Прокопюк И. (2006-2021)


